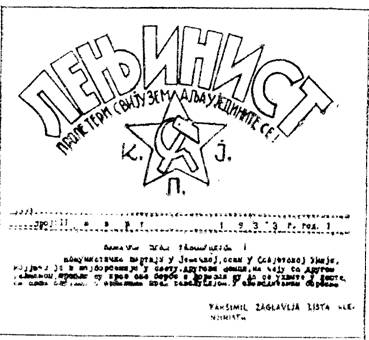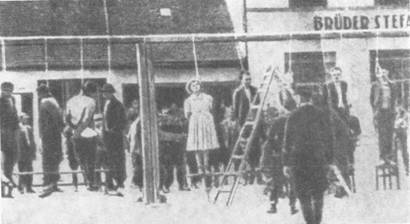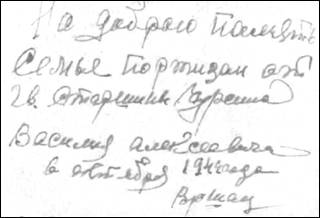Миличевич
Предраг
Т О В А Р И Щ И М О И
Москва
«Молодая гвардия»
Предисловие доктора исторических
наук В.В.Зеленина
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
24 апреля 1929 года из загребской тюрьмы были выведены двое
заключенных, прикованных друг к другу наручниками. Под конвоем пары жандармов
их на поезде доставили в город Марибор, откуда пешком погнали в горы. После
ночевки на придорожном постоялом дворе конвоируемых повели по направлению к
югославо-австрийской границе. Когда до пограничной полосы оставалось около
«Никуда я не собираюсь бежать», — твердо ответил крепко
сколоченный мужчина с тяжелыми руками рабочего и со следами пыток на лице. И в
этот момент раздались выстрелы. Воровато оглядываясь по сторонам, палачи сняли
с убитых наручники и отправились восвояси. Так реакционный режим
военно-монархической диктатуры югославского короля Александра Карагеоргиевича
подло расправился с пламенным борцом за дело освобождения рабочего класса
Югославии, рабочим-металлистом, депутатом Конституционного собрания (
Темной ночью в конце июля того же года из Загреба выехали три полицейских автомобиля, битком набитые вооруженными жандармами, сыщиками, агентами тайной полиции. К четырем часам утра колонна прибыла в городок Самобор, где участники этой «экспедиции», стараясь не шуметь, заняли позиции в рощице и садах вокруг домишки, указанного полицейскими ищейками. Когда все было готово, голос одного из жандармов разорвал ночную тишину: «Сдавайтесь! Вы окружены!» В ответ из дома раздались револьверные выстрелы. Осаждающие открыли частый огонь и лишь после того, как стрельба из дома прекратилась, осторожно, с опаской вошли в помещение, где застали окровавленные трупы трех молодых людей. Это были секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи Югославии Янко Мишин и двое его товарищей...
17 августа 1929 года в белградской полицейской тюрьме после зверских пыток был убит член ЦК КО и секретарь ЦК СКМЮ Пая Марганович...
Этот скорбный список можно продолжать до бесконечности: только в 1928—1931 годах было убито или замучено в полицейских застенках без суда и следствия свыше ста югославских коммунистов и комсомольцев, а около тысячи их было брошено в каторжные тюрьмы на длительные сроки. 4 августа 1928 года был арестован секретарь союза рабочих-металлистов Загреба Иосип Боз. Суд приговорил его к пяти годам каторжных работ.
Полицейские шпики хватали всех, кто вел подозрительные с точки зрения властей разговоры, выискивали лиц, живших без прописки, отряды жандармов и полицейских стреляли по участникам митингов и демонстраций рабочих, подавляли крестьянские волнения, обрушивались на забастовщиков. Огонь открывался по любому поводу. Агент тайной полиции, узнав на улице человека, подозреваемого в принадлежности к компартии или комсомолу, выхватывал пистолет и стрелял без предупреждения.
2 февраля 1935 года началась забастовка студентов Белградского, Загребского и Люблинского университетов, протестовавших против заключения группы прогрессивных студентов в созданный по гитлеровскому образцу концентрационный лагерь в Вишеграде. Студенты юридического факультета Белградского университета, отличавшиеся особой сплоченностью и свободолюбием (этот факультет заслуженно звали «красным»), объявили голодовку и забаррикадировались в аудиториях. Получив приказ правительства разгромить стачку, крупные силы полиции взяли здание университета штурмом, во время которого был убит студент Мирко Срзентич. Его похороны вылились в мощную антиправительственную демонстрацию.
О жестоких полицейских расправах со студентами вынуждены были говорить даже депутаты скупщины (парламента), раболепствовавшие перед королем и одобрявшие драконовские меры правительства против компартии и других прогрессивных организаций. Так, 2 марта 1932 года депутат от реакционной хорватской партии права Элегович сравнил творящиеся в полицейских застенках насилия с «пытками испанской инквизиции». «Здесь, — сказал он, — привязывают людям за спиной руки к ногам и в таком виде их подвешивают к потолку, а затем прижигают горящими спичками или сигаретами шею, пятки, руки; потом их раздевают донага — и не только мужчин, но и женщин — и избивают до потери сознания, до бесчувствия...»
Вот в таких условиях югославская молодежь, в авангарде которой шел созданный в 1920 году и действовавший под руководством, возникшей в 1919 году Коммунистической партии Югославии боевой Союз коммунистической молодежи Югославии, вела в течение более чем двух десятилетий борьбу за свои права, против реакционного режима, за светлое будущее.
Предлагаемая советскому читателю книга П. Миличевича освещает одну из страниц борьбы югославских коммунистов и комсомольцев во второй половине 30-х — начале 40-х годов нашего века. Повесть «Товарищи мои» рассказывает о том, что пережил ее автор в предгрозовые и первые самые трудные годы минувшей войны. И, хотя повествование развивается на весьма ограниченном пространстве города Вршаца и Южного Баната, (казалось бы, что мог видеть, что пережить подросток-гимназист в провинциальном городке в те далекие годы) в нем нашли отражение многие типичные черты жизни в Югославии между двумя мировыми войнами и борьбы югославских рабочих и крестьян, передовой интеллигенции и учащейся молодежи, коммунистов и комсомольцев той поры.
Великая Октябрьская социалистическая революция подняла на борьбу против войны и бесправия, против голода и нищеты миллионные массы угнетенных всего мира. Революционный подъем охватил и все воюющие страны Европы. Под ударами национально-освободительного и революционного движения рухнула Австро-Венгерская «лоскутная» монархия. На ее развалинах возникли новые национальные государственные образования — Австрийская и Венгерская республики и два многонациональных славянских государства — Чехословацкая республика и Королевство сербов, хорватов и словенцев (в 1929 году переименованное в королевство Югославию).
Образование Югославии завершило длительный и сложный процесс, названный В. И. Лениным «национальной революцией южного славянства» (Ленин В.И. Полн.собр.соч.т.26, с.16). В состав Югославии вошли самостоятельные королевства Сербия и Черногория и южнославянские земли Австро-Венгрии, провозгласившие в октябре 1918 года разрыв с угнетавшей их в течение многих столетий монархией Габсбургов. Первого декабря 1918 года представители Народного веча этих земель, созданного на волне мощного национально-освободительного движения, преподнесли принцу-регенту Сербии Александру Карагеоргиевичу (управлявшему страной от имени своего престарелого отца короля Петра I) адрес с просьбой об объединении всех югославянских земель. Этот адрес и ответная речь Александра явились государственно-правовой основой образования нового многонационального славянского государства (решение о присоединении к нему Черногории приняла Народная скупщина Черногории, король которой, Никола, вынужден был доживать свой век в эмиграции).
С первых дней ее существования Югославию раздирали острые социальные и национальные противоречия. Война принесла трудящимся массам неимоверные страдания; в стране бушевала инфляция, ее хозяйство было разорено, многие районы охвачены голодом.
Под давлением широко развернувшегося революционного движения буржуазно-помещичьи круги во главе с королевским двором обещали проведение некоторых реформ, был принят ряд законов, несколько улучшавших бедственное положение обездоленных слоев населения. В 1919 году была создана Коммунистическая партия Югославии, которая на выборах в Учредительное собрание 1920 года добилась значительного успеха и пользовалась широкой поддержкой трудящихся масс.
Острейшей проблемой внутриполитической жизни стал национальный вопрос. Династия Карагеоргиевичей и политические партии крупной сербской буржуазии, используя имевшийся в их распоряжении целый ряд преимуществ, заняли доминирующее положение в государстве, проводя великосербскую шовинистическую политику по отношению к другим народам страны, игнорируя их национальные, исторические, культурные особенности, что не могло не вызвать сопротивления в несербских областях. Обострению национальных противоречий способствовал тот факт, что подавляющее большинство буржуазных и мелкобуржуазных партий имело узко национальный характер. Парламентские кризисы и правительственная чехарда были перманентным явлением в политической жизни Югославии в межвоенные десятилетия.
Коммунистическая партия и Союз коммунистической
молодежи Югославии с самых первых дней заявили о себе как общеюгославские
организации, построенные на принципах равенства и братства всех народов,
населявших Югославию. В их рядах не могло быть и не было национального
высокомерия, национальной исключительности, столь характерных для
непролетарских партий и организаций того времени. Последовательная борьба КПЮ и
СКМЮ за интересы трудового народа, большой успех коммунистов на выборах (в
Учредительное собрание, а затем и в местные муниципалитеты), мощное стачечное
движение рабочего класса вызвали злобу и ненависть реакции. В ночь на 30
декабря 1920 года министр внутренних дел издал циркуляр о роспуске компартии и
комсомола, запрещении издания их газет и конфискации партийного имущества. Этот
циркуляр — печально знаменитая «Обзнана» — открыл целую эпоху в истории
югославского революционного коммунистического и молодежного движения,
продолжавшуюся более двух десятилетий, эпоху жестоких преследований, оставшуюся
в памяти народа как годы «белого террора», особенно усилившегося после издания
антикоммунистического закона «О защите государственной безопасности» (
Чтобы сбить накал революционной борьбы масс, парализовать непрерывно возраставшее влияние на них компартии и комсомола, власти поощряли создание прорежимных, реакционных и даже чисто фашистских организаций. Этот процесс особенно усилился, когда в 1935 году с приходом к власти правительства во главе с крупнейшим банкиром, ярым поклонником Гитлера и Муссолини Миланом Стоядиновичем был взят курс на отход от традиционной дружбы с Францией, и началось всестороннее сближение с гитлеровской Германией. В стране, как грибы, возникали различные погромные организации, многие из которых копировали итальянских чернорубашечников и гитлеровских штурмовиков. Стоядинович создал подчиненные лично ему отряды зеленорубашечников, перед которыми он выступал, приветствуя своих слушателей фашистским приветствием.
Для борьбы против коммунистического влияния среди студентов, бывших главной опорой комсомола в те годы, власти создали так называемую Организацию национальных студентов — ОРНАС, члены которой избивали студентов-комсомольцев, срывали организуемые ими митинги и собрания.
Весь 1935 год студенчество Белградского университета вело борьбу за автономию университетов, за прекращение насилий и террора полиции и фашиствующих организаций. В декабре 1935 года на массовом митинге студенты потребовали принятия нового законодательства, увольнения ректора реакционера В. Чоровича, роспуска ОРНАС. Ответом властей были новые репрессии. Тогда Комитет действия, находившийся под руководством СКМЮ, принял решение пойти на крайнюю меру. 3 апреля 1936 года была объявлена студенческая забастовка, а на другой день фашистские молодчики из ОРНАС ударами кинжалов в спину убили студента-юриста Жарко Мариновича и ранили еще двоих студентов.
Забастовка продолжалась 25 дней и окончилась победой: ректор подал в отставку, новый ректор обещал удовлетворить требования студентов. В ознаменование этой победы была выпущена листовка, написанная вожаком студентов-комсомольцев университета, будущим секретарем ЦК СКМ Югославии Иво Лолой Рибаром.
Революционное рабочее и коммунистическое движение в Югославии развивалось под всесторонним влиянием Октябрьской революции, успехов молодой Республики Советов в деле защиты завоеваний Октября, в деле строительства новой жизни. После победоносного окончания гражданской войны в России на родину вернулись тысячи югославских интернационалистов, очень многие из которых с оружием в руках защищали молодую Советскую власть, твердо стали на путь борьбы за пролетарскую революцию. Вернувшись домой, они несли народу свет ленинских идей, многие из них участвовали в создании Коммунистической партии Югославии, стали впоследствии ее выдающимися деятелями, стойкими борцами революции.
Было немало таких и в Банате. Так, в деревню Меленци - возвратилась группа бойцов легендарной Чапаевской дивизии, некоторые из них еще были живы в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции и были награждены высокими наградами СССР.
Являясь секцией Коммунистического Интернационала Молодежи (КИМ), СКМЮ поддерживал тесные связи с ВЛКСМ. Молодые герои Октября, герои гражданской войны были светлым примером для югославских комсомольцев. Стоит взглянуть на заголовки прогрессивной молодежной печати Югославии начала 30-х годов, и эта связь становится очевидной: «Млади большевик», «Млади ленинист», «Млади комунист», «Црвена звезда» — всюду рядом с заголовком пятиконечная звезда с серпом и молотом. У Ленинской партии большевиков и у ее верного помощника и боевого резерва — Ленинского комсомола учились молодые югославские революционеры пролетарской стойкости, мужеству и отваге, по их примеру воспитывали в себе благородные чувства пролетарского интернационализма.
Тесная идейная и духовная связь революционной борьбы, которую в условиях жестокого подполья вели герои книги П. Миличевича, с борьбой и историческими завоеваниями советского народа раскрывается в полном жизненной и исторической правды показе их неутолимого желания знать как можно больше об успехах Страны Советов, о жизни ее молодежи, быть достойными высокого звания комсомольца и коммуниста.
Для югославского молодежного коммунистического движения 30-х годов весьма характерна высокая активность в нем учащейся молодежи — студентов и старшеклассников средних учебных заведений.
Комсомольцы, как правило, были в числе лучших учеников. Например, в протоколах заседаний педагогического совета Подгорицкой гимназии конца февраля — начала марта 1935 года, на которых разбиралось дело об участии гимназистов в антиправительственной демонстрации, сохранились протесты прогрессивных учителей против исключения 47 «самых лучших учеников».
Гордостью Вршацкой гимназии был Борислав (Браца) Петров,
так живо и достоверно описанный П. Миличевичем. В 1938 году
семнадцатилетний гимназист Браца был принят в СКМЮ и в том же году стал
секретарем городской организации. В 1939 году он становится членом КПЮ и членом
Воеводинского краевого комитета СКМЮ. На V
Воеводинской краевой конференции СКМЮ (август
К началу народно-освободительной войны против фашистских оккупантов и их местных приспешников Коммунистическая партия Югославии насчитывала 12 тысяч членов, закаленных в суровых условиях борьбы против реакционного режима. В рядах Союза коммунистической молодежи было около 40 тысяч юношей и девушек.
4 июля 1941 года Политбюро ЦК КПЮ приняло решение о начале вооруженной борьбы, и вскоре пламя восстания охватило всю страну. Югославская молодежь внесла огромный вклад в дело победы над фашистскими оккупантами и их приспешниками-квислинговцами, составив свыше 70 процентов бойцов партизанских отрядов и выросшей из них героической Народно-освободительной армии. В ее рядах сражались десятки тысяч девушек. В бой шли подростки 12—14 лет, многие из которых стали гранатометчиками, или, как их называли в Югославии, «бомбашами». Скрытно приблизившись к доту или другому укреплению противника, бомбаш забрасывал его ручными бомбами, прокладывая путь вперед своим товарищам.
С огромной самоотверженностью трудилась молодежь в тылу — как на освобожденных территориях, так и в районах, удерживаемых врагом. Молодежные рабочие бригады буквально из-под носа оккупантов ночами собирали урожай и на своих плечах уносили продовольствие партизанам. В дни жестоких боев и изнурительных походов эти бригады, подавляющее большинство членов которых составляла крестьянские девушки, переносили носилки с ранеными бойцами в холод и стужу, под пулеметным огнем и бомбами фашистской авиации.
В декабре 1942 года в освобожденном от фашистской оккупации городе Бихаче, в Западной Боснии, состоялся I (учредительный) конгресс антифашистской молодежи Югославии, на котором была создана массовая молодежная организация — Объединенный союз антифашистской молодежи Югославии. Бурю восторга вызвало у делегатов конгресса приветствие советской молодежи, которое юные бойцы за свободу Югославии восприняли как братское рукопожатие молодого поколения советского народа.
Как сотруднику советской военной миссии в Югославии мне довелось присутствовать на II конгрессе антифашистской молодежи Югославии, состоявшемся 2—4 мая 1944 года в освобожденном городке Дрваре, на который собралось 816 делегатов из всех национальных областей страны и из рядов Народно-освободительной армии и партизанских отрядов. Приветствие Антифашистского комитета советской молодежи зачитал сотрудник миссии майор В.М. Сахаров, горячо встреченный делегатами. Все дни, пока продолжался конгресс, в Дрваре звенели молодые голоса, то тут, то там раздавалась песня или кто-нибудь заводил «коло».
А 25 мая гитлеровцы после жестокой бомбардировки Дрвара высадили на город и его окрестности воздушный десант — около 750 эсэсовских головорезов, задачей которых было уничтожить руководство Народно-освободительного движения Югославии во главе с маршалом Иосипом Броз Тито. Но Дрвар не дрогнул. В полном составе погиб окружной комитет Союза коммунистической молодежи Дрварского округа, но не пропустил врага. Все попытки десантников прорваться к расположению Верховного штаба и советской военной миссии отражались убийственным огнем бойцов охранного батальона Верховного штаба, средний возраст которых был девятнадцать лет. Фашистская акция провалилась.
Освободительное движение народов Югославии, развернувшееся по призыву и под руководством КПЮ, год от года крепло и расширялось. Ряды борцов за свободу и независимость Родины непрерывно росли: в декабре 1941 года в Югославии с оккупантами и их местными приспешниками разных мастей сражались 80 тысяч партизан, к концу 1942 года их было около 150 тысяч. В декабре 1941 года было создано первое регулярное соединение — Первая пролетарская бригада, а в ноябре 1942 года началось формирование Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), были созданы дивизии и корпуса, что заставляло фашистских оккупантов держать в Югославии значительные силы. К началу 1944 года 300 тысяч воинов НОАЮ и партизан (в районах, где не было условий для создания регулярных частей, действовали партизанские отряды) вели всенародную Освободительную войну, а к светлому дню Победы численность народных бойцов составляла 800 тысяч. Своим героизмом и самоотверженностью, проявленными в боях за свободу и независимость родины, народные вооруженные силы Югославии, руководимые коммунистами, внесли достойный вклад в общее дело разгрома злейшего врага человечества — фашизма. За это отдали жизнь две трети коммунистов и комсомольцев, вступивших в неравный бой летом 1941 года.
Освободительная война привела к резкой
поляризации политических сил в стране. В рядах Народного фронта во главе с КПЮ
объединялись рабочие и крестьяне,
представители непролетарских слоев трудящихся и народной интеллигенции. Большинство представителей эксплуататорских
классов и аппарата насилия буржуазного общества (полиция, жандармерия и т. п.)
пошли на службу захватчикам. Победа над фашистскими оккупантами одновременно
привела и к разгрому всех антинародных сил. В ходе освободительной войны в
стране родились новые, подлинно демократические органы власти —
народно-освободительные комитеты, в стране совершалась народно-демократическая
революция, открывавшая путь к светлому будущему — социализму.
|
|
|
Памятник
Народному Герою Югославии
Жарко Зренянину в городе, носящем его имя |
Автобиографическая
повесть. П. Миличевича «Товарищи мои» раскрывает одну из малоизвестных страниц народно-освободительной борьбы в Южном
Банате. Герои повести — исторические лица. Уча — это Жарко Зренянин, один из
наиболее выдающихся деятелей революционного движения в Югославии. В 1920-х
годах он учительствовал, первоначально в Македонии, а затем в родном селе
Избиште, где в 1927 году создал первую коммунистическую ячейку. В его доме в
Избиште работала подпольная партийная типография, печатавшая газету «Ленинист»
и газету белградских коммунистов «Ударник».
После провала типографии
Жарко Зренянин провел три года в каторжных тюрьмах. По выходе из
заключения он действовал в городе Вршаце и вскоре стал организационным
секретарем Южно-Банатского окружкома КПЮ, а в 1936году — членом Воеводинского
краевого комитета КПЮ. С августа 1938 года он секретарь этого комитета, а с
1940-го — член ЦК КПЮ. Вршацкий период деятельности Жарко Зренянина и отражен в
повести П. Миличевича. Имя Народного героя Югославии Жарко Зренянина ныне носит
бывший город Петровград.
Я убежден,
что молодой советский читатель с интересом прочитает повествование о
югославских сверстниках и соратниках Олега Кошевого и других юных советских героев
Великой Отечественной войны.
В.
В. ЗЕЛЕНИН
ОТ АВТОРА
Для народов Югославии,
как и для народов Советского
Союза, священна память о людях, разгромивших
фашизм. Среди таких людей в трудные
предвоенные и военные годы прошли мое детство и
юность. Мне посчастливилось бороться под руководством югославских коммунистов, плечом к плечу с замечательными юношами и девушками — югославскими комсомольцами, многие из которых пали смертью храбрых в тяжелейших схватках с врагом. Вышли эти люди из недр своего народа и, как
показала жизнь, 6ыли лучшими
выразителями его стремлений, идеалов, традиций.
В своей борьбе за социальную справедливость и свободу коммунисты и комсомольцы не знали компромиссов. Нравственную чистоту, преданность делу Ленина и единству
обездоленнык масс всего мира, преданность великой идее братства народов Югославии и Советского Союза они берегли как зеницу
ока, ибо твердо знали, что будущее родного
народа — в осуществлении этих
идеалов. Нет прекрасного будущего без
осознания героического прошлого. Вот почему мне хотелось в меру моих сил рассказать об этих людях и их борьбе.
Более сорока лет
прошло с тех пор, в памяти стерлись некоторые
детали, но никогда не забыть прекрасные лица товарищей моих по борьбе, их юношеский задор, мужество, твердую
уверенность в правоте своего дела, высокие
цели, которые нас объединяли, особое чувство локтя
братьев-подпольщиков, темные улицы городов и
деревень, заброшенные проселочные дороги, тяжелый, мокрый осенний чернозем придавленного оккупационным
сапогом, но не сдавшегося Баната,
области Воеводины, где разворачиваются
основные, события моих воспоминаний.
К сожалению, в годы
войны было не до дневников и фотографий,
поэтому в книге приведены только те фотоматериалы, которые удалось собрать уже
в наши дни.
НАШ ДОМ
|
|
|
Чедомир Миличевич, отец автора, учитель, один из руководителей Подгорского партизанского отряда, схвачен фашистами весной лагере Усен, Северная Норвегия в |
Отец мой, строгий, серьезный, требовательный и не очень
разговорчивый человек исконной сербской закваски, сколько я его помню, редко
улыбался, и мы даже немного побаивались его. Он много работал сам и нас, своих
детей, приучил уважать труд других людей. Особенно он не терпел неуважения к
хлебу, этому основному продукту крестьянского труда. Обедали мы, завтракали и
ужинали в строго определенное время, садились за стол после отца, и в тарелке
не должно было оставаться после еды ни крошки. Выходец из патриархальной
крестьянской семьи в Западной Сербии, где еще чувствовался дух «задруги» —
коллективно-родового ведения хозяйства, при котором земля не разделялась между
сыновьями, а управлял всем хозяйством старший рода, отец многие черты характера
унаследовал от своих предков. Старший рода распределял работу, управлял
финансами, поучал, наказывал, определял, что кому покупать, кому жениться, а
кому замуж выходить и за кого, решал массу других мелких и важных дел большого
коллектива. Так, старший в задруге Миличевичей — дед Марко, по совету учителя
сельской приходской школы, решил, что младшему, Чедомиру, то есть моему отцу,
полезно было бы продолжить обучение. И отца определили учиться дальше. Как
видно из документов, он учился отлично, в 1913 году закончил педагогическое
училище и был направлен на работу учителем. Не успел он свой первый класс
«вывести в люди», как в 1914 году произошло столкновение маленькой Сербии с
Австро-Венгерской империей. Отца призвали в армию. Прошел он все тяготы войны,
пережил горечь поражения, отступая вместе с другими солдатами перед превосходящими
силами захватчиков, прошел известную по своему трагизму в истории «албанскую
голгофу»: зимой 1915 года сербская армия, неся огромные потери, отступила через
непроходимый горный хребет к албанскому побережью Адриатики. Когда измученная,
изголодавшаяся до предела сербская армия с трудом спустилась с каменных круч
высокого и холодного горного массива Проклетие на побережье, отца вместе с
тысячами умирающих с голоду сербских солдат погрузили на пароходы и отправили в
союзную Францию на излечение. Там, на чужбине, немного окрепнув, отец начал
работать на заводе, где в общении с французскими рабочими, при чтении доступной
литературы познакомился более основательно с социалистическими идеями; там же
он узнал о победе Великой Октябрьской социалистической революции в России.
|
|
|||
|
Учитель Чедомир Миличевич со своими учениками.
Средняя школа, г. Вршац |
После окончания первой империалистической
войны отец вернулся на родину и снова занялся педагогической деятельностью, но
теперь это уже был не просто учитель, вместе со знаниями он распространял
коммунистические идеи, за что сразу же был взят на заметку как «злостный и
неблагонадежный элемент». Учителем отец был замечательным: двадцать один год
педагогическую деятельность отца власти ежегодно оценивали на «отлично», но
восемнадцать раз в виде наказания за пропаганду коммунистических идей
перемещали его по службе из деревни в деревню, не давая возможности прочно
осесть на одном месте, обзавестись надежными друзьями и соратниками. Но отец не
отступал от своих принципов, и куда бы его ни забрасывала судьба, активно
участвовал в учительском движении, часто выступал с лекциями и докладами,
сотрудничал в газетах и журналах «Учительска борба», «Учительска искра»,
«Учительска стража», в организации издательства «Вук Караджич», принимал самое
непосредственное участие в создании библиотеки «Будущее». На съезде учителей
Югославии в 1939 году в городе Баня Лука прогрессивно настроенная часть учителей
выдвинула отца председателем Главного Суда Чести учителей Югославии. Из двадцати
пяти делегатов, предложивших его кандидатуру на эту почетную должность,
двадцать погибло в борьбе с фашистской нечистью, а четверо из них получили
высокое звание героев Югославии.
|
|
|
Анджелия Миличевич – Зренянин, учительница, активная участница коммунистического подполья и народно-освободительной борьбы |
Моя мать,
Анджелия, как и все матери, самый замечательный человек. Она не только растила,
воспитывала детей, вела домашнее хозяйство, но была другом отца, его
единомышленником, активно помогая ему в его нелегальной работе. Мама была и по
сей день остается неистощимой оптимисткой. И если отец считал, что еще очень
много нужно работать людям над собой, чтобы доброе начало победило в человеке и
в обществе, то у матери гармонично сочетались социалистические идеи с
бесконечной верой в людей. Через наш дом вереницей проходила городская беднота,
люди, измученные бедами и несчастьями. Мать помогала каждому, кто к ней
обращался за помощью. Одному — устроиться на работу, другому — достать
лекарство, третьего она и сама могла повести к врачу, четвертому — купить
детские ботинки, а ведь нужно было еще и за своими детьми присмотреть. И все
она успевала, все делала с доброй улыбкой. А когда ее приняли в ряды
коммунистической партии, действовавшей в глубоком подполье, то и опасную
революционную работу она исполняла с той же страстностью и одержимостью, с
какой относилась ко всему, что бы ни делала.
В 1939 году
мать по поручению компартии и от имени очень представительной организации
«Женское движение Югославии» приветствовала съезд учителей в городе Баня Лука.
Ее горячий призыв сплотиться в борьбе против реакционного правительства за
социальное и национальное равноправие, сказать «нет!» фашизму, нашел отклик у
прогрессивно настроенной части делегатов съезда. По-иному расценили это
выступление власти. Наказание последовало незамедлительно. Не имея оснований
предъявить матери и отцу обвинение и антигосударственной деятельности, власти
специальным постановлением отправили мою мать в тридцать девять лет на пенсию,
а отца — уже в который раз снова перевели на работу в одну из глухих деревень
Восточной Сербии. Материальный ущерб семье был нанесен существенный, но мы не
вешали носа и даже шутили, что зато самая молодая пенсионерка страны в нашей
семье, не где-нибудь!
С нами жили
сестры матери, Вера и Любима. Вера, писаная банатская красавица, работала
портнихой, много читала и отличалась удивительной способностью разбираться в
людях, за что мы очень ее уважали. Любима же, скромная и сдержанная, была
любимицей семьи. Она обладала редким даром подражания и могла высмеять в
кругу близких кого угодно. Затяжной
кризис тридцатых годов коснулся и нашей семьи. Любима и ее младший брат Спасое
подолгу оставались без работы и часто уезжали на ее поиски в другие города. Но
когда семья бывала в сборе и в воскресенье после обеда или ужина все
усаживались за столом, стены сотрясались от смеха. Любима выступала как
заправская артистка, как теперь принято говорить, с творческим отчетом, едко
высмеивая подмеченные беспорядки; когда же она изображала кого-нибудь из
знакомых, мы буквально хватались за животы от смеха.
В конце
тридцатых, годов Вера и Любима вышли замуж, и семья наша пополнилась
замечательными мужчинами, Деяном и Марко. Общее у них было только то, что оба
они были студенты юридического факультета Белградского университета, оба
коммунисты. Во всем остальном они были совершенно непохожи. Деян из наших краев, коренастый, хорошо
сложенный, очень музыкальный, любил
пошутить и посмеяться. Марко из Черногории, длинный, худой, серьезный, знал
много всевозможных историй о стычках бедняков с буржуями, которых он всею душой
ненавидел, и интересно рассказывал об этом..
Но всем руководила в нашей
семье бабушка Драга. И это при живом дедушке! Обычно такое бывает, если мужчина
пьяница или лодырь. И хотя наш дедушка Жива никогда по пьянствовал, а уж
работал всю жизнь, не покладая рук, он обладал одной особенностью: дедушка был
таким добряком, каких наша округа еще не видывала. Все люди — в деревне ли, в
городе — ему родня, чужое горе, он воспринимал как свое, и стоило кому-нибудь
обратиться к нему с просьбой о помощи, как он отдавал человеку последнее. Не
мог он превозмочь свою доброту, а семья была большая, вот бабушке и пришлось
взвалить на свои плечи эту нелегкую ношу. Была она труженица великая и во всем
любила порядок. Вставала до петухов, а спать ложилась последней, после
полуночи. Дом у нее сверкал чистотой. Мы, дети, очень уважали бабушку,
обращались к ней только на «Вы», старались как можно лучше выполнить любое ее
поручение. Причем все делалось без окриков и какого-либо принуждения, в
охотку. Но и характер умела показать наша бабушка Драга, строгая и справедливая
это была женщина. В то время, когда вокруг было столько набожных людей, она
запретила заходить в дом попу, в церковь не ходила сама и нас не неволила. Но
православные наши праздники: рождество, пасху, славу — соблюдала, и так
великолепно их справляла, что у меня в памяти они навсегда остались как лучшие
воспоминания детства.
|
|
|
|
Драга
и Жива Зренянин с внуками Предрагом (автор) и Слободаном. |
|
Вот одно из них. В день перед рождеством,
на «Бадне вече», как у нас в Сербии говорят, вся семья бывала в сборе. Свет
горит всю ночь — таков обычай. Женщины дом уже прибрали, готовятся кушанья,
жарится специально откормленная индюшка, вкусно пахнет пирогами, печеньем. Мы,
младшие, с нетерпением ждем десяти часов вечера. В десять все одеваемся и идем
на задний двор за соломой. Впереди важно вышагивает дед, а мы гуськом за ним.
Ночь темная, морозная, и нужно, пока идем, найти свою звезду на небосводе.
Подходим к стогу, и каждый, взяв охапку побольше, несет солому в дом, чтобы
разбросать по всем комнатам, в кухне, чулане, в сенях. Пока разбрасываем, можно
поваляться, побороться, подурачиться вволю. В полночь опять выходим на улицу.
Бабушка раздает каждому по тарелочке, наполненной кукурузой, пшеницей, фасолью,
горохом. Здесь свой ритуал: во главе с дедом обходим большой двор. Дедушка
берет у каждого из тарелочки пригоршню зерна, бросает в одну, затем в другую
сторону и приговаривает:
— Поля наши, обрадуйте нас богатым
урожаем! Мы ему вторим:
— А мы потрудимся!
— Да уродится пшеница золотая! Да уродится
кукуруза высокая!
— А мы потрудимся!
И так пока не разбросаем всё
заготовленное в тарелочках зерно. Затем заходим в дом, где, опять с
тарелочками, наполненными орехами и леденцами, обходим все помещения. Теперь
уже бабушка разбрасывает содержимое тарелочек по всем углам, приговаривая:
— Чтобы в этом доме хватило пищи!
— Чтобы в этом доме было весело!
— Чтобы в этом доме все были здоровы!
Затем бабушка с дедушкой уходили и
возвращались к нам с гостинцами. Мы тоже готовили для них подарки: кто что мог
сделать своими руками. Все улыбались, целовались. Дед палил из пугача, потчевал
старших ракией. Дети же, да и тети, и их мужья студенты, бросались в солому,
ища разбросанные конфеты, орехи, шоколадки, отталкивали друг друга, визжали от
радости. Пахло соломой и счастьем!
Бабушка, конечно, была главой
нашей семьи, но уж она, в свою очередь, больше всего прислушивалась к советам
своего старшего сына Жарко, который был своего рода идейным лидером в семье, ее
совестью. Учитель, по профессии, бунтовщик по натуре, он унаследовал от матери
ее сильную волю и логику, а от отца — бесконечную доброту и трудолюбие. С этими
качествами Жарко, вполне понятно, но мог примириться с нравами и порядками,
существовавшими в нашем королевстве, и уже с юношеских лет встал на путь
борьбы. Мой отец и другие старшие товарищи познакомили его с основами
коммунистического учения, и он жадно впитывал бесценные знания. Жарко твердо усвоил, что простым людям ждать
улучшения жизни неоткуда, понял, что за справедливую и радостную жизнь нужно
бороться, и бороться с умом, а не вслепую. И он, не покладая рук, начинает
трудиться, чтобы приблизить победу народа над ненавистными угнетателями. Как
педагог, влюбленный в свою профессию, Жарко успешно преподает в школе, с
большим удовольствием учит детвору. Когда кто-то из детей бедняков заболевал, и
у родителей не было денег, чтобы заплатить за лечение доктору, Жарко сам
помогал матери лечить ребенка, советуясь со знакомыми врачами. Он ночи напролет
просиживал у постели больного, и это запомнилось людям. Но не только
педагогической деятельностью занимался Жарко. Он активно участвовал и в
практической работе по улучшению жизни людей. Так, он задумал создать по
деревням сеть народных университетов, даже привозил для этой цели профессоров
из Белграда, организовал курсы по ликвидации неграмотности среди взрослых
крестьян, пробовал объединить крестьян-бедняков в кооперативы. Власти
забеспокоились, видя, какую кипучую деятельность развернул двадцатилетний
Жарко, а он, словно не замечая опасности, продолжал объединять людей вокруг
себя. Жарко восстановил разгромленную профашистской диктатурой организацию
компартии в Банате, стал нелегально выпускать и распространять газету
«Ленинист». Этого ему уже простить не могли, власти арестовали его и осудили на
длительную каторгу с лишением всех гражданских прав.
|
|
|
Молодой учитель Жарко Зренянин |
|
|
|
|
|
Газета «Ленинист» |
Но удивительное дело! У человека ни
власти, ни богатства, ни «положения» в обществе. Гонимый жандармами,
преследуемый полицией за свои убеждения, жестоко и беспрерывно наказываемый
простой народный учитель, политкаторжанин, «бандит коммунистический», выражаясь
официальной терминологией тех времен, представляет опасность для властей одним
своим существованием. А в народе у Жарко авторитет непререкаемый. Его слово –
закон!
В 1936 году в начале апреля поехали
мы, родственники, встречать Жарко: вышел срок его каторги, и власти определили
ему место поселения — село Избиште. Ближайший полустанок был в соседнем селе
Ульма, куда Жарко должны были привезти и сдать под расписку местным жандармам.
Мы приехали туда задолго до прибытия поезда и были очень удивлены, что на
полустанке так многолюдно. А народ все прибывал и прибывал. Оказывается, в
Избиште и окрестных селах разнесся слух об освобождении Жарко, и люди, кто на
телеге, кто на таратайке, а кто и пешком пришли встретить своего любимого
учителя. Приехали его первые ученики, дети, которых он лечил, благодарные
родители этих детей, друзья, товарищи по совместной борьбе. Постепенно пустырь
перед полустанком заполнился настолько, что хоть открывай митинг. Люди были
одеты, причесаны, словно на празднике, улыбались друг другу. И как только поезд
остановился, все побежали к вагону, из которого выскочил счастливый Жарко;
каждому хотелось обнять его или хотя бы пожать руку.
— Здраво, Жарко! Здраво, учителю! Здраво,
Учо! Живеооо! (Здравствуй Жарко! Здравствуй учитель!
Здравствуйт Уча! Будь здоров! – серб., примеч.ред ).
Поцелуи, поздравления, объятия друзей,
товарищей, родственников. Ему подали специально украшенный экипаж, но он
отказался ехать и предложил пройтись пешком, предоставив экипаж в распоряжение
детей. Нашей радости не было предела, и я с братом и с другими мальчишками,
взобравшись на козлы, с высоты своего положения наблюдал за Жарко. Весна была в
полном разгаре, светило ослепительное солнце, слева и справа от дороги
раскинулись сады в черешневом и абрикосовом цвету, стелилась ярко-зеленая
трава, а впереди шел улыбающийся Уча, переходил от группы к группе односельчан,
весело с ними переговариваясь. Сзади нас тянулась вереница повозок, колясок,
бричек с женщинами. Пять километров от полустанка до села проехали незаметно. А
когда шумная процессия въехала в деревню и подъехала к дому Зреняниновых, на
дворе и на гумне уже толпился народ, поджидая Жарко. Люди не вышли в поле,
решив отпраздновать возвращение, своего учителя — Учи и никакая сила помешать
этому не могла. Прямо на улице были выставлены столы, лавки, каждый принес, что
мог из еды, люди подходили, угощались, поздравляли друг друга, как в праздник.
И ничто этот праздник не омрачало:
жандармы и полицейские агенты исчезли еще на полустанке.
Я засыпáл в сенях, утомленный событиями дня.
Со двора доносился гомон, пение, смех, музыка, люди танцевали коло. За стеной
кто-то грузно уселся на лавку и довольным голосом говорит:
— Вся деревня здесь! Нет только нотариуса
и жандармов...
Сиплый старческий голос отвечает ему:
— Где уж им! Напугались, наверное, у
богатея нашего, у Арсы сидят.
На минуту разговор затихает, затем я
слышу уже полушепот:
— А ты знаешь, Уча-то наш — Ненад. Точно
тебе говорю!.. Вот придет время — попомнишь мои слова...
Прислушиваясь, я улыбаюсь про себя,
понимая, о чем идет речь. Дед мне несколько раз рассказывал сказку-быль, нигде
не записанную, но упорно пересказываемую простонародьем Воеводины из поколения
в поколение. В сказке этой говорилось о том, что давным-давно, лет триста, а
может быть, и четыреста тому назад, в Южном Банате жил некий Йован Ненад. Работал
конюхом, коней пас у помещиков, был подневольным, как и сотни тысяч сербских, и
венгерских крестьян, врачевал людей народными средствами и многих больных на
ноги поставил. Люди тянулись к нему: одни — чтобы поправить здоровье, другие —
чтобы поделиться наболевшим и получить совет, как избавиться от гнета
богатеев-феодалов, которые вытягивали из крестьян последние соки. Но Йован
Ненад до времени отмалчивался. И только когда завоеватели в очередной раз
перешли Дунай и Саву и схватились с алчными венгерскими и сербскими феодалами в
давнишнем споре, кому из них угнетать простой люд, и ослабели в междоусобной
войне, выступил Ненад перед народом и сказал:
— Пришел мой черед! Кто за свободу и
правду, кто против богатеев и завоевателей, кто не желает терпеть рабство —
ступай в мое войско. Я — царь бедняцкий, прогоню феодалов и турков, устрою
справедливое бедняцкое царство!
И пошли к ному простые люди, сербы и
венгры. Собрал Ненад большое войско, разбил врагов, очистил Банат и всю
Воеводину от неприятеля, землю
дал тем, кто ее пахал и сеял. И зажили люди счастливо. Дед на этом сказку
заканчивал и на все мои вопросы, что же дальше-то было с Ненадом, отвечал
неохотно, что неизвестно, мол, да и всё тут. Только однажды сказал:
— Был слух такой: враги нашли подлого человека.
Он предал Ненада, его схватили и убили. А царство бедняцкое разгромили. Но
враки все это, враки! — добавил дед, успокаивая, как я понимал, и меня и себя.
Вспомнив сказку про Ненада, рассказанную
дедом, я сонно улыбнулся и быстро заснул. Мне было приятно, что нашего Жарко
сравнивают с легендарным сказочным
Ненадом.
Жарко обладал удивительным даром влиять
на людей, к нему тянулись сотни, тысячи простых тружеников, Вся наша семья старалась помогать Жарко
в его нелегкой, но такой благородной и нужной революционной работе. Как и все,
я очень любил его. Почему? Как-то все само собой получилось. Мне было не более
шести лет. Никому я не признавался, что очень боялся темноты. Бывало, мать
вечером попросит меня что-нибудь принести со двора, я притворюсь, что не слышу
или занят каким-нибудь важным делом, а если обмануть не удавалось, вместо себя
подсовывал брата или отца. Жарко заприметил это и, поняв мое состояние, пришел
мне на помощь:
— Послушай, Душко (уменьшительное обращение к мальчикам по
имени Предраг, Драган и др. - примеч. ред.), ты знаешь, какая у меня была история в
молодости? Примерно в твоем возрасте я жутко боялся темноты. Неприятно было
очень, но ничего не мог с собой поделать. Как безлуние или к ночи время
приближается, ноги отказываются идти. И
знаешь, как избавился от этой напасти? Не поверишь! Помнишь, у нас в
Избиште во дворе дома колодец стоял? Так я научился пробегать от двери дома до
колодца и обратно с закрытыми глазами. Как натренировался днем, не глядя, без
ошибки пробегать туда-сюда, тут уж и ночью рискнул. Быстро так бегу, а самому
вдруг смешно стало, что ж это я с закрытыми глазами, ведь все равно кругом
темнота и ничего не видно! Я открыл глаза и перестал бояться. Вот какая смешная
штука со мной вышла...
Слушал я Жарко внимательно, а про себя
думал: надо попробовать, ему ведь помогло. Мать часто посылала меня за
чем-нибудь в сарай, я и решил научиться пробегать это расстояние с закрытыми
глазами. Брат Слободан удивился:
— Что это ты вслепую бегаешь туда-сюда?
— Тренируюсь...
Скоро я действительно так навострился,
что мог бегать к сараю, не глядя, а однажды ночью набрался храбрости и юркнул,
зажмурившись, в темноту.
Точно получилось, как он рассказывал! И
когда я с бабушкой в начале 1934 года посетил Жарко на каторге и он спросил,
как у меня обстоят дела, я гордо ответил:
— Темноты больше не боюсь!
Он улыбнулся своей доброй улыбкой и
потрепал меня по шее. Мог ли я после этого не любить Жарко!
Или взять другой случай. В
конце 1936 года, еще до его освобождения, мать поехала на свидание к Жарко в
Митровицкую тюрьму и взяла нас с братом. Мы подготовили передачу из лучших
продуктов, что были в доме, бабушка с мамой напекли вкусных вещей. Не забыли мы
и про голодных товарищей Жарко, которых у него было много, прихватили гостинцев
и на их долю. В Белграде пересели на другой поезд и быстро доехали до Сремской Митровицы. Перед зданием тюрьмы собралась
большая толпа посетителей с пакетиками, свертками, корзиночками, таких же, как
и мы, родственников или знакомых заключенных. Мать с некоторыми из них
здоровалась, здесь вообще быстро знакомились: горе ведь сближает людей. Но вот
вышел надзиратель и партиями стал пропускать на свидание с заключенными. Идем
по узкому коридору, дух в тюрьме тяжелый, казенно-карболочный. Перед входом в
зал «свиданий» всех тщательно обыскивают и только после этого впускают в
просторное помещение со сводчатым приземистым потолком, перегороженное мощной
решеткой. С нашей стороны перед решеткой по грудь железный барьер. По коридору
прохаживается надзиратель. По ту сторону решетки находится небольшая площадка,
метров в пять, затем опять решетка с широкой дверью и длинным коридором. Стоим
у барьера, ждем, когда приведут заключенных. И вот слух улавливает сначала
легкое позвякивание ключей, замков, а затем и шарканье ног.
— Ведут, ведут, — раздается со всех
сторон.
И действительно, в коридоре появляется
человек пятнадцать заключенных в сопровождении надзирателей. Все вытягивают
шеи, вертят головами, стараясь отыскать своих. Мы тоже всматриваемся в лица:
где же, где же наш Жарко?! Ах вот он! Жарко подходит к решетке, машет, смеется,
довольный, что так быстро нас увидел, Мы тоже улыбаемся. Жарко поздоровался и
сначала поговорил с нами, детьми. Каждого расспросил, как обстоят дела в школе,
дома. Мы доложили, что учимся хорошо, он похвалил нас, посмеялся, порадовался,
как мы здорово подросли, и особенно отметил брата Слобу, он вытянулся больше.
Только после этого Жарко засыпал вопросами мать: о родственниках, знакомых, о
событиях на воле. Мать быстро-быстро обо всем ему рассказывает, стараясь не
упустить подробностей. Я в это время поглядываю по сторонам и с любопытством
рассматриваю новую для меня обстановку. Посетители выстроились у барьера,
разговаривают с арестованными. Одни плачут, другие улыбаются, радуются, что
наконец-то увидели дорогое лицо. Человека через четыре от нас, справа, —
молодая пара. Заключенный — парень, бледный, небритый, — с девушкой
переговаривается. Определить с первого взгляда, кто она ему, трудно: то ли
сестра, то ли невеста. Вдруг заключенный закашлялся. Сильно, до слез, а
утереться нечем. Девушка протянула ему через барьер платок.
— Нарушаешь! — кричит
надзиратель-коридорный. — Прекращаю свидание!
Парень пытается сквозь кашель доказать,
что он ничего не нарушил, ничего не взял, но двое надзирателей его хватают. Он
пальцами цепляется за решетку так сильно, что они побелели от напряжения. Один
надзиратель отрывает его руку от решетки, второй бьет прикладом по пальцам.
Решетка обагряется кровью, парень кричит:
— Помогите, товарищи! Учо, помоги!
Но Жарко уже бросился на помощь. Он
налетает на первого надзирателя, приподнимает его и швыряет об пол, а затем и
второго оттаскивает от парня и командует остальным заключенным:
— Товарищи, в круг!
Политзаключенные оставляют своих близких,
отрываются от решетки, образуют круг, встав спиной друг к другу, защищаются от
налетевших на них надзирателей, требуют, чтобы вышел начальник тюрьмы.
Надзиратели наседают со всех сторон, бьют людей прикладами, со злобой кричат:
«Мы вам покажем, банда коммунистическая, такого начальника, что не
обрадуетесь...», стараются оттеснить арестантов к коридору. Нас, посетителей,
так же бесцеремонно выталкивают к выходу. Свидание закончилось.
Разве могло не взволновать увиденное в
тюрьме мою детскую душу! Из таких впечатлений складывались любовь и уважение к
Уче, и не только у меня, ведь многие простые люди любили его как родного.
|
|
|
Анджелия Миличевич с сыновьями Слободаном и Предрагом, |
Немалое влияние оказал на меня и мой брат
Слободан. Он был старше на полтора года, и потому, как и полагалось старшему, в
наших детских играх верховодил, а я тянулся за ним и шел как бы «вторым
номером». Был брат очень неспокойным, впечатлительным, бурно-восторженным.
Бывало, вдруг среди игры понравится ему береза, кривая акация, бабочка, он
встанет как вкопанный и обо всем забудет. Я тогда еще не понимал, что это в нем
просыпалась тяга к прекрасному, но он и меня хотел увлечь поиском красоты.
Тащил на гору ни свет ни заря посмотреть восход солнца, а мне страсть как спать
хотелось. Я подчинялся, плелся за ним, но готов был десять восходов и даже
сладкий сон поменять на полчаса хорошего футбола. Были мы оба худыми, часами
носились по дворам и переулкам, гоняли голубей, бегали за кошками, разводили
кроликов, тутового шелкопряда, а с нашим верным другом, собакой Йовой, просто
вытворяли чудеса. Чего мы только с беднягой не делали! Я во всем старался
подражать брату. Правда, была у меня мечта хоть в чем-нибудь обойти Слободана,
но, как я ни старался, ничего не получалось. Слободан рос быстрее, был сильнее
физически, и если в чем мне и удалось обогнать его, так это по части получения
тумаков и подзатыльников, которыми он же меня награждал.
|
|
|
Слободан Миличевич, партизан, с 3 Украинским фронтом Советской Армии освобождал родную Югославию. |
Правда, в одном, как мне казалось, мне
удалось сравняться с ним. Но что из этого получилось, судить самому трудно, я
все же лицо явно заинтересованное. Пришло время брату идти в первый класс.
Начались приготовления, ему покупали новую одежду, книжки, и мне, конечно, было
завидно. Про меня взрослые в это время словно забыли совсем, и я решил им
напомнить о своем существовании. «Неужели они думают, что он может ходить в
школу, а я не могу? — рассуждал я сам с собой. — Ничего у них не выйдет!» И дня
за два до первого сентября я заявил родителям, что тоже пойду учиться.
Родственники сначала похвалили мое
рвение, какой, мол, молодец, но начали объяснять, почему мне нельзя идти в
школу: законом не положено, мал еще, тяжело будет. Я твердил как попугай свое:
хочу с братом в школу — и все тут. Часа три мне терпеливо объясняли, потом
родителям мое «хочу в тот же класс», надоело, и они твердо сказали, нельзя. Я
закатил истерику, не спал целую ночь, родители тоже не спали и к утру
отступили. Мать пошла к учителю, объяснила ситуацию и попросила принять меня
условно, пусть, мол, походит немного, а со временем надоест, сам бросит.
|
|
|
Слободан Миличевич |
Радости моей не было предела. Еще бы! Я
иду в школу вместе с братом, в тот же класс! Походил неделю, месяц — втянулся.
Он решает задачу — и я решаю задачу, он читает — и я читаю, он пишет — и я
царапаю в тетради каракули. Родители успокоились; ходит ребенок в школу, ну и
ладно, лишь бы не болтался без дела. Так незаметно прошел год. В конце учебного
года брата, как положено, перевели во второй класс, меня же оставили в первом.
Было обидно, конечно, но ничего не поделаешь, раз учитель так решил — значит,
нужно, и я согласился снова учиться в первом классе. Все-таки в школе, не
выгнали же, утешал я себя.
На второй год моего обучения
в первом классе было уже легче, многое я знал. Но в конце года мне опять крупно
не повезло, вышло какое-то постановление брать детей в школу только с семи лет,
и меня снова зачислили в первый класс. Когда в третий раз уже на законных
основаниях я пришел в класс, то был среди первоклашек кем-то вроде академика в
коротких штанишках. Я знал не только, что будут проходить сегодня, завтра,
через месяц, но даже мог без труда сказать, о чем будет говорить учитель во
втором полугодии и чем вообще закончится обучение в первом классе. Товарищи
уважали меня за советы и помощь, и так как у меня появилось много свободного
времени, ведь уроки я дома не готовил, то после школы гонял мяч со старшими
ребятами. Заниматься я перестал совершенно, по моему мнению, мне нечего уже
было больше учить, и на старом капитале спокойно дотянул в отличниках почти до
конца третьего класса. Но постепенно я стал замечать, что мой авторитет в
классе заметно уменьшился, некоторые ученики меня обогнали в своих знаниях, я
же, порой, не мог ответить на самый простой вопрос учителя. Счастье мое, что
отец был строг, быстро разобрался в моей «звездной» болезни и так меня
поднагрузил учебой, что постепенно я выправился. Брат мой к этому времени
повзрослел, поступил в гимназию. У него проявились литературные способности, он
здорово рисовал, его творческая натура дала о себе знать. Честно говоря, его
страстное увлечение рисованием — он мог часами сидеть за своими картинами —
меня совершенно не устраивало. Он стал меньше со мной играть, но главное — я
боялся, что, пока он рисует, мы отстанем от других ребят в физическом развитии.
Время было предвоенное, гитлеровская «пятая колонна», а с ней и их гитлерюгенд
(в наших краях немецкое население было очень многочисленным) довольно нагло
вело себя по отношению к основному населению. При полном попустительстве нашего
правительства сынки богатеев из гитлерюгенда нахально разгуливали по городу, и
наши стычки с ними были совершенно неизбежны. По-разному у нас получалось: то
они нас били, то мы им вкладывали по первое число.
Как-то под вечер спускаемся мы с братом с
горы, а перед самым городом встречают нас трое. Двое — одногодки брата, один
помоложе, с меня ростом. Увидели нас и встали посреди дороги. Мы сразу поняли:
стычка неизбежна. Тут один из них говорит:
— Ну что, раци (Унизительное
прозвище сербов – примеч. авт.), попались!
Я только успел подумать, что нам несдобровать,
особенно если к ним на помощь подоспеет кто-нибудь из их шайки, и тут брат без
лишних слов так врезал говорившему, что тот свалился как подкошенный. Второй
подскочил, а Слободан ему подножку, и он уже на земле. Третий, видя такое дело,
пустился наутек. Я было за ним погнался, но брат остановил меня и, обращаясь к
тем двоим, угрожающе произнес:
— Ну что, нечисть фашистская, вам еще
показать, чтобы вы на мирных людей не нападали?.. Плюнув в их сторону, мы пошли
дальше.
От избытка нахлынувших на меня чувств я
обнял Слободана, и мы весело
прошли немецкую часть города. Про себя же я тогда подумал, что, похоже, я
рисование недооцениваю...
А планер над городом все кружил и кружил.
Мы в нашем классе в разговорах все чаще и чаще возвращались к серебристой птице
и к той, кто управлял ею, к Миле. Размышляя о планере и планеристке, я
огорчался, почему такая замечательная девушка не в наших рядах, и мне очень
хотелось, чтобы Мила принимала участие в подпольном молодежном движении. Нас
было до обидного мало, но я твердо верил, что наступит день, когда все самые
смелые и честные, красивые и справедливые люди вольются в наши ряды. Попробовал
было поговорить об этом со Слободаном, да так бестолково повел разговор,
перепрыгивая с одного на другое, что он, ничего не поняв, махнул рукой: мал,
мол, еще, чтобы лезть в такие дела, без тебя разберемся, кого надо, а кого не
надо принимать в наши ряды.
Постепенно
горожане уже начали привыкать к кружению серебристых длиннокрылых птиц над
старой крепостью. А вот к четырем «мессерам», купленным королевским
правительством в Германии и с ревом проносившимся над крышами домов, горожане
относились уже не так восторженно. Европа начала полыхать зарницами второй
мировой войны, ее отсветы долетали и до Балкан. Правящие круги погрязли во
всевозможных махинациях и интригах, отношения между отдельными политическими
партиями завязывались в такие узлы, что простым смертным оставалось недоуменно
пожимать плечами. В стране продолжалась политическая чехарда. На фоне
благообразной конституционной монархии различные буржуазные партии от
либеральных демократов до истеричных «лётичевцев» (Сербская фашистская
организация в довоенной Югославии, названная по имени ее основателя Лётича –
примеч.авт.) во славу
престола и во имя укрепления частной собственности играли в «демократию».
Играли упоено, азартно. Лидеры-ловкачи как фокусники манипулировали буржуазными
свободами, акциями и моралью, займами и выборами, ложью и правдой, А чтобы в
этой грязной возне оказаться наверху и урвать побольше куш, не гнушались
никакими средствами: от подкупов и обмана до убийства неугодных. Народ же при
таких ловкачах-руководителях был бесправен. Экономические выкладки и анализ не
всегда к месту и могут вызвать скуку. Но все же, чтобы лучше понять атмосферу
предвоенных лет в Югославии, привести несколько фактов следует.
Югославия в тридцатые годы была
небольшой, типично сельскохозяйственной страной на юго-востоке капиталистической
Европы, так сказать, ее аграрно-сырьевым придатком со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Из пятнадцатимиллионного населения страны
почти двенадцать занималось сельским хозяйством. При этом двадцать тысяч
крупных землевладельцев имели в своем распоряжении 51 процент всей пахотной
земли. На долю всего остального населения приходилось сорок девять процентов. В
нашей же Воеводине безземельного сельскохозяйственного пролетариата было 30
процентов, бедняцких хозяйств — 50 процентов, середняков — 15, а кулаков с
помещиками — всего 5 процентов, хотя и владели они львиной долей земли.
Современному человеку трудно представить,
как жилось простым людям в деревне при такой раскладке. А городскому
пролетариату приходилось и того хуже. Неудивительно, что в стране процветала
нищета, хроническая безработица, сплошная неграмотность, туберкулез, голод,
национальный гнет, и десятки тысяч людей вынуждены были эмигрировать в другие
страны в поисках лучшей доли. Решать наболевшие вопросы власти совершенно не
желали, их вполне устраивало сложившееся положение, ничто не мешало им в такой
обстановке туго набивать карманы.
За
примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы выборы в парламент 1938 года.
Они широко афишировались как самые демократичные. В действительности же и смех
и грех! До выборов кандидаты в депутаты раздавали обещания одно другого
радужнее, как маги, вытаскивающие разноцветные платки. Непосредственно перед
выборами каждый кандидат-богач начинал строительство какого-нибудь общественно
полезного сооружения, обещанного избирателям на предвыборном митинге: колодца,
водосточной канавы, тротуара, туалета. Возводились строительные леса,
перегораживалась улица, прибивалась на видном месте вывеска, на которой
указывалась фамилия кандидата, ведущего строительство. Знай, мол, наших! Ведь
из своего кармана строю! В день выборов каждая партия покупала голоса простых
людей в розницу, каждая по своему рецепту. Правая ЮНС (Югославская
национальная партия – примеч.авт.) перед голосованием «дарила» каждому
своему избирателю по левому тапочку, еще более правая ЮРЗ (Югославский
радикальный союз – примеч. авт.) —
по правой калоше, «лётичевцы» раздавали специально разрезанную половину динара.
Вторую часть «подарка» избиратели получали после соответствующего голосования —
кто правый тапочек, кто галошу, а кто и вторую половину денежной купюры. И все
эти мошенники угощали избирателей ракией, спаивая народ оптом и в розницу,
превращая выборы в грязную пьянку и в сплошной обман. Строительство общественно
полезных сооружений сразу же после выборов прекращалось. О выполнении своих
обещаний избранные депутаты и не вспоминали, а по городу еще долго ходили в
обращении, склеенные динары, как память о совершенной подлости.
И только в одном месте, в темном
полуподвале с чисто подметенным земляным полом, во время выборов не было пьяных
и не пахло винным угаром. В помещении стояли в ряд лавки и за небольшим
столиком, освещенным керосиновой лампой, сидели люди. Это был штаб партии
трудового народа, под чьим именем выступала Коммунистическая партия Югославии,
находившаяся в то время в подполье. Здесь не покупали голоса, не спаивали, не
обманывали, не сулили золотых гор, а предлагали объединиться простым людям и
бороться совместно за общее счастье. Обсуждали итоги выборов. Руководил
предвыборной кампанией Уча.
Он говорил:
— ...360 голосов для города,
это, товарищи, конечно, мало, очень мало. Но это и победа. В крае, где народные
бунты были подавлены более ста лет тому назад, где замордованный, безграмотный,
отравленный религиозными и национальными предрассудками народ, потеряв веру во
все и вся, говорит «даj шта даш» (давай хоть что-нибудь – серб., примеч.
авт.),
берет и левые тапочки, и правые галоши, и пьет горькую, махнув на все рукой, в
этих условиях 360 голосов — еще какая победа! В условиях, когда «лётичевские»
громилы и жандармы могут схватить и выкрутить руки: «Ты что, бандит, против
короля и отечества?!» — в этих условиях отдать голос за нашу партию — большое
мужество. За такими людьми пойдет народ, дайте только срок... По-другому думали
ловкачи и хапуги, набравшие обманом голоса избирателей. Они ехали в Белград и
усаживались в депутатское кресло с одной единственной целью — использовать свое
положение для наживы. Разбогатеть, разбогатеть, разбогатеть — вот их основной
девиз. И неудивительно, что при таком отношении к власти у нас в Белграде
правительства менялись часто: проанглийское, прогерманское, с французским
прононсом — люди не успевали следить за их сменой. Но хоть и разные у них были
привязанности, объединяло их всех одно: стремление повыгоднее и подороже
продать народное добро. И еще была у них во взглядах общая черта — ненависть к
коммунистам. Они это слово спокойно произносить не могли. И потому установка
была такова: левые элементы давить, коммунистов на каторгу! Про Советскую Россию
ни гу-гу, словно ее и не существовало. Невероятно, но факт остается фактом.
Чему только в гимназии не учили! Учили много и хорошо, но вот дальше Днестра,
Буга, Двины — белое пятно. Даже Волгу не упоминали! Табу! Официальная
общественно-политическая жизнь вроде бы освещалась в газетах, там упоминалось,
что творится на правительствующих подмостках, но все это сильно напоминало
театр марионеток. Вдумчивому человеку, нет-нет, да и почудится, что кто-то
очень искусно ведет спектакль, дергает кукол за веревочки. Несерьезно все это
было и добром закончиться никак не могло.
По-разному в народе относились к
существующему положению: пессимисты перешептывались и говорили чуть не о конце
света, горе-оптимисты из процветающих мещан на творившиеся безобразия смотрели сквозь
пальцы, а то и вовсе делали вид, что ничего особенного не происходит. А были и
такие, кто просто отмахивался и не хотел ни о чем думать: «Ну и что! Бывало и
похуже! Пережили, да еще какое обширное королевство создали»! Честные люди
видели, что долго так продолжаться не может, доведут хапуги страну до
катастрофы в общегосударственном масштабе. Так оно в скором времени и вышло.
ТИПОГРАФИЯ
|
|
|
Анджелия
Миличевич-Зренянин, Вера Бранков-Зренянин, Любима Перович-Зренянин. Родные
сестры и соратницы по тяжелой борьбе с фашизмом. 1960-е годы. |
Подпольная типография в нашем доме
работала все напряженнее. Руководил ею Уча. Мы со Слободаном с большим
удовольствием принимали участие в ее работе. Всей технической стороной дела
заправлял отец. У нас с ним состоялся важный разговор. Отец очень тихо
объяснил, что типография — дело серьезное, и если я хочу работать здесь, то
непременно должен выполнить одно условие — учиться только на «отлично» по всем
предметам.Тети, Вера и Любима, тоже работали в типографии. Приходили они
пораньше остальных. Любима печатала на машинке оригинал оттиска, Вера помогала
моей матери в подготовке материалов. Работали мы по ночам, часов с одиннадцати
до двух утра. При работе в типографии все мы строго соблюдали конспирацию.
Беба, Неда, Браца и остальные товарищи приходили в течение часа, выдерживая
установленные интервалы. Когда все печатники были в сборе, отец доставал из
тайника типографские принадлежности. В считанные минуты наша просторная кухня
превращалась в печатный цех, которым спокойно руководил отец. Наш Старшой, как
его уважительно называли подпольщики.
Однажды отец сообщил нам, что предстоит
очень серьезная работа:
— Будем печатать не листовки, а книгу. Да
еще какую! Историю ВКП(б), историю русских коммунистов. Напечатаем, и будут
наши люди по ней учиться жить и бороться...
Для нас эта новость была не то что
интересной, а потрясающей, да простит меня сведущий читатель, изучавший историю
русской революции в школе, институте, на семинарах, в спокойной обстановке. Мы
ему покажемся, конечно, простодушными идеалистами, и кое-кто даже, может,
улыбнется при этих моих словах. Но тут нет ничего удивительного. Одно дело —
школа, институт, семинар, реальная социалистическая действительность и совсем
другое — то далекое-близкое подполье.
Надо прямо сказать — большевики для нас
были людьми идеальными, наделенными лучшими человеческими качествами, этаким
сгустком энергии, принципиальности и бесстрашия в борьбе с силами зла. Для нас
они были такими особенными, что мы не могли их представить в обычной
обстановке, на улице, дома за чашкой кофе, а о том, что они могут оказаться
рядом с нами, мы и не мечтали. Они были в далекой России, стране, которая
олицетворяла собой победу над капиталом, стране, которая служила наглядным
подтверждением того, что мы не мечтатели-фантасты, а вместе со всем народом
боремся за правое и вполне реальное дело. В нас жила уверенность, что и в нашей
стране мы сможем совершить революцию, точно так же, как ее когда-то совершили
большевики в России. Ох, как нам важно было знать, что есть такая страна,
Россия, СССР, где идеи социализма не только овладели умами людей, но и стали
повседневной реальностью и успешно воплощаются в жизнь. О трудностях
строительства новой жизни на руинах старого общества мы, конечно, не
задумывались.
Был еще один важный момент во всем этом —
твердая вера, что если нам будет совсем невмоготу, если наши богатеи в борьбе с
нами призовут на помощь богатеев Запада и наши силы совсем иссякнут, большевики
нас в беде не оставят, помогут как братья. Эту неукротимую веру югославским
коммунистам из подполья удалось донести и до народных масс, и она, эта вера,
привела к восстанию против фашистского зверя сразу же после 22 июня 1941 года.
Восстание развивалось по законам народно-освободительной войны. Югославские коммунисты
и весь югославский народ в этой борьбе выполнили и свой интернациональный долг
— оказали посильную помощь Стране Советов в тяжелейший, критический момент. При
этом мы всегда верили, что именно Красная Армия и советский народ под
руководством большевиков разобьют германский фашизм.
НОВЕНЬКАЯ
Наша типография продолжала успешно
работать, но напряжение все
возрастало. Как-то отец нам сказал:
|
|
|
Легендарная Мила Матеич, студентка
юридического факультета Белградского университета, с 1938 года активная участница подполья и народно- освободительной борьбы. Арестована гестапо 06.04.1942 г., повешена 21. |
— Объем работ увеличивается, поэтому,
ребята, у нас будут новенькие.
Новенькие? Для нас приход нового товарища
— целое событие. Что он за
человек? Что его привело к нам?
Эти и другие вопросы возникали у нас при
виде новичка, и мы с нескрываемым любопытством рассматривали его. Но когда в
нашей типографии появилась синеглазая Мила, моему удивлению и радости не было
границ. Мила-планеристка! Вот это да, вот это новенькая!
Работали мы в основном на четырех
шапирографах. На каждом работало по двое, и это у нас называлось звеном. Один
готовил бумагу, смазывал, подправлял глянцевую желеобразную поверхность, второй
накладывал, выравнивал и снимал напечатанный лист.
В тот вечер отец распределил работу и
напарников. Я оказался в одном звене с Милой и был этим очень доволен и горд. Еще бы! Самая храбрая девушка края
работает со мной в одном звене! Да к тому же, такая красивая! Сложена она была
великолепно, роста среднего, такая ладная и подвижная, сразу было видно, что
она спортсменка и дружит с воздухом и солнцем. Общаться с ней было очень легко,
человек она была выдержанный, необыкновенно приятный, умела увлекательно
рассказывать об очень интересных вещах. Мила хорошо пела и любила смеяться.
Больше всего я почему-то запомнил солнечный ореол ее волос и мягкий овал
красивого лица. Красота Милы была именно мягкой, подкупающей, от ее лица,
улыбки излучалось добро.
Родители Милы были состоятельными людьми.
Матея Матеич, отец Милы, владел дровяным складом в городе. Слыл он человеком
крутым в деловом мире, но взгляды имел демократичные, хоть это и не вязалось,
на первый взгляд, с его богатством. Зажиточные «отцы» города были один правее
другого, а Матея Матеич, хотя и примыкал к их кругу по своему общественному
положению, держался от них особняком. В их ряд не становился, даже правильнее
сказать, не вписывался. И была тому своя причина. Веская.
|
|
|
Милушка Матеич, мать Милы, в предвоенные годы председатель прогрессивной организации «Женское движение» в г. Вршац. |
Отец Милы унаследовал от своих родителей
определенный капитал и только решил развернуть собственное дело в процветающей
Австро-Венгерской империи, как в 1915 году его забрали в армию и отправили на
восточный фронт, в болотистую Галицию. На собственной шкуре испытал он все
прелести окопной жизни: кормил в окопах вшей, терпел издевательства
австро-венгерской офицерской знати. В его голове не раз возникала мысль: негоже
сербу служить этой империи,
служить в тот самый момент, когда его народ борется за свое национальное
освобождение. Эта мысль, как зубная боль, не давала ему покоя, и он в конце
концов решил порвать с армией и сдался русским в плен. Сделать это было
нелегко, мучили угрызения совести, зато какое почувствовал облегчение, будто
родился заново, когда его как пленного отправили в глубь России. Знакомство с
новой страной началось с простого народа, и много открыл Матея для себя
полезного. В России его застала Февральская революция, был он свидетелем Великого
Октября и гражданской войны. Матея смотрел, слушал и не переставал удивляться
происходящему. На его глазах рушился старый мир, из пепла, нищеты, слез и
голода в неимоверных муках рождался новый мир, новые человеческие отношения. И
Матея решил про себя, что только могучему народу эти великие события по плечу.
Вернулся Матея из Советской России в 1919
году. Поселился на Банатской равнине и с головой окунулся в дела. В помещичьей
стране волчьи законы, нелегко ему приходилось, хоть и средства были. Но при всей
занятости Матея нет-нет да и вспоминал годы, проведенные в России. Рассказывать
обо всем увиденном и услышанном в своем кругу не было смысла, его бы все равно
не поняли. Поэтому он очень обрадовался знакомству с Учей, руководителем
коммунистического подполья Воеводины. Тридцатые годы были сложными, и Матея в беседах с Учей находил
ответы на многие мучившие его вопросы, а сам рассказывал Уче об ураганных днях
Октября. Бунтарем Матея не стал, но деньгами здорово помогал нелегальной партии
коммунистов. И дочь свою воспитывал в свободолюбивом духе, часто ей напоминал:
нет на свете, доченька, ничего дороже свободы и справедливости. Многое Мила
почерпнула и из книг. Дом у них был полон литературы, не дом, а настоящая
библиотека, здесь вся классика, в том числе и русская. От Милы я впервые,
кстати, услышал о русских народовольцах: Желябове, Перовской, Фигнер,
Кибальчиче.
В нашей типографии ребята и девушки были
все молодые, озорные. Старшой знай покрикивал на нас:
— Тише, тише, разве можно так громко? Я
же вас предупреждал: хохотать, петь, говорить можно только шепотом!
Но именно поэтому, наверное, любой
анекдот, шутка доводили нас до слез. Мы едва сдерживались, чтобы не
расхохотаться, но стоило Старшому посмотреть в нашу сторону, как наши лица
серьезнели. Особенно мы любили слушать Милу. Она рассказывала о полетах на
планере, о той красоте, которая открывалась ей из маленькой кабины, о своих
ощущениях. Ее глазами мы видели нашу красивую землю, наш Вршац, и кукурузные
массивы, простирающиеся вдали, тоненькие струйки речек, разбегающиеся дороги,
крошечные повозки, букашек-коров. А старая наша крепость сверху-то оказалась
просто квадратиком. Умела Мила рассказать и о том высоком чувстве свободы,
которое испытывает человек, когда планер, подхваченный восходящими потоками
нагретого жарким солнцем воздуха, поднимается все выше и выше в необозримое
чистое небо.
— А если двинуться в сторону Карпат и если
повезет с облаками... — продолжала Мила и даже приподнималась на носках, словно
хотела взлететь.
Мы слушали, и нам было приятно, что все
это видела и испытала она, наш товарищ. Мила так просто и красиво рассказывала
о недоступных для нас вещах, что порой казалось, будто мы вместе с ней парим на
планере. И неудивительно, что мы всю эту красоту воспринимали ее глазами. Это
чистое небо, эти красоты были наши и поэтому мы победим... И мечты наши
терялись в туманной дали будущего.
Был у нас и свой ритуал в конце работы.
Закончив печатать, мы собирались тесной кучей и вполголоса пели наши любимые
революционные песни. Особенно красивые голоса были у Нецы, Бебы и Милы и, когда
они выводили для нас следующую строку куплета, мы восхищенно замолкали:
|
Црвен jе исток и запад, Црвен jе север и jуг, Кораци тутне у напад, Напред уз друга jе друг! |
* В пламени север и запад, в пламени юг и восток, смело, товарищ, в атаку, бой за свободу жесток |
(Песня
югославских партизан, сложенная на музыку русской революционной песни «Смело
товарищи в ногу» - примеч. ред.)
Мы любили революционные песни. Они
утоляли наше стремление к прекрасному, настраивали мгновенно на лирическую
волну и еще теснее объединяли нас. Наши юные сердца испытывали тягу к
героическому, и песни удовлетворяли и эту потребность души. Они воспринимались
почти как собственность. Нам их дарили, и мы были благодарны за это. В свою очередь,
мы с радостью пели для новых товарищей, но вполне понятно, что наши песни можно
было петь не каждому встречному. Когда к нам заходил Деян, брал в руки свою
тамбурину и, как волшебный маг, украшал песню музыкальным оформлением — это был
уже настоящий праздник, мы испытывали верх блаженства. В такие мгновения нам
грезились баррикады Парижской коммуны, лихие атаки Первой Конной! Выводил нас
из этого состояния, спускал на землю строгий голос Старшого, напоминавший, что
пора расходиться по домам.
Однажды, как всегда сдержанно оценивая
сделанное нами, Старшой перед началом работы сказал:
— Медленно, товарищи, двигаемся,
медленно. Дело серьезное, закончить нужно поскорее. По-моему, многовато вы
шепчетесь, отвлекаетесь по пустякам, хихикаете. А знаете ли вы, что советские
люди не просто работают, а еще и соревнуются друг с другом во время работы. И
лучший не тот, кто красивее байки бает, а тот, кто толково свое дело делает.
Я неприятно удивился. Вот-те на!
Работаешь, работаешь, стараешься, на уроках потом носом клюешь... А тобой еще
недовольны! Сидим нахмуренные, ждем, что он дальше скажет. Вдруг встает Мила и
говорит:
— И вправду, много мы времени зря тратим,
многое еще у нас не продумано. Вот и бумагу из одной кучи берем, движения не
согласованы, много суетимся... — И вкратце изложила свои соображения, как
улучшить работу.
Все загалдели. Кто согласен, кто нет.
Какая, мол, разница, из одной кучи брать бумагу или положить ее под рукой.
— Зачем зря спорить, давайте
посоревнуемся. Кто лучше поработает, тот и прав, — предложила Мила.
С ней согласились. И что тут началось!
Все посерьезнели, приумолкли, каждый старается делать свою операцию половчее. С
непривычки чувствуем себя напряженно, не все сразу получается, но постепенно
разошлись. Никому не хотелось отставать, самолюбие не позволяло оказаться на
последнем месте, и потому все старались работать как можно лучше. После Старшой
подвел итоги и торжественно сообщил, что победило звено Милы. Я сиял. Вот это
да! Обошли самого Брацу, нашу гордость и лучшего печатника! Но Браца нисколько
не обиделся и порадовался за нас:
— Это даже хорошо, что «синеглазка»
победила! Но я не знал, что она такая хитруля. Ведь, небось заранее все
обдумала, все движения рассчитала, а остальным пришлось на ходу
перестраиваться. Вот посмотрим, что следующая ночь покажет!
БРАЦА
|
|
|
Браца – Братислав Петров, в предвоенные годы руководитель комсомольского подполья в гимназии города Вршаца, один из организаторов народно-освободительной борьбы в Южном Банате,
секретарь подпольного окружного комитета КПЮ, пал смертью храбрых 06.03.1942 г. |
Я только что сказал: Браца — наша
гордость, и выразился не совсем точно. Гордиться товарищем, который участвует в
подпольной деятельности, конечно, можно. Но тут дело не только в нас. Братислав
Петров — Браца, как мы его ласково называли, был не только нашей гордостью, но
и гордостью города. Ну, уж и загнул, скептически улыбнется иной читатель. Не
герой, не космонавт — и гордость всего города! Так не бывает! Да и город-то наш
был неоднороден, разные в нем проживали люди, объединенные в разные партии,
раздираемые классовыми, экономическими и иными противоречиями. И все же Браца
был гордостью нашего города. Оказывается и так бывает. Изредка, правда,
наперекор логике жизнь в муках и радостях рождает такого человека, как Браца.
В то время, о котором я рассказываю,
центром интеллектуальной жизни города было литературное общество «Скерлич» и
рабочее культурно-просветительное общество «Абрашевич». Собирались «скерличи» —
так называли членов общества — в гимназии либо в педагогическом училище. Резкое
обострение политической обстановки в Европе в конце тридцатых годов отразилось
и на общественной и культурной жизни нашего тихого городка. У нас четко
просматривалось разделение сил на два лагеря, и хотя правые все еще задавали
тон, но по всему уже чувствовалось, что в недрах общества зарождается новое,
прогрессивное, и это новое все
чаще и чаще вступало в открытую схватку с силами зла и мракобесия. За
культурным, интеллектуальным развитием общества зорко следил наш Уча, умело
направлял его в нужное русло через опытного коммуниста Йованку Радакович —
преподавательницу литературы в нашей гимназии. Уча вовремя замечал ростки
нового, всех, кто не .хотел мириться со злом, кто свободно мыслил, всех, кто
готов был бороться со старым, несправедливым миром. Уча знал толк в людях,
находил самородки, бережно воспитывал их, знакомил с революционными идеями и
направлял в народ, где только и могла раскрыться настоящая личность. Его
воспитанники учили народ и сами учились у народа принципиальности,
справедливости, честности, любви к труду, какой-то особой народной мудрости, а
именно эти качества помогли им впоследствии в смертный час не дрогнуть перед врагом.
|
|
|
Йованка Радакович, активная участница
подполья. Схвачена гестапо в августе 1941 года, расстреляна 19.09.1941 г. |
Нашел Уча и Братислава Петрова. Он увидел
в нем и трудолюбие, и стойкость, и ум, и жажду знаний, и большие
организаторские способности. Они подружились. Трогательная это была дружба
молодого восторженного человека и уже зрелого революционера. Под крылом Учи
Браца быстро набирался опыта и знаний и вырастал в талантливого вожака
молодежи, в подпольщика и неудивительно, что вскоре он возглавил комсомольскую
организацию гимназии, потом города, а затем и всей Воеводины.
Борьба за умы и сердца людей шла не
только на заводах и фабриках, но и на заседании общества «Скерлич». В докладах
и лекциях, в диспутах сталкивались различные взгляды, различные подходы к
решению назревших проблем. Каждая из группировок старалась выставить на диспуте
лучшего из своих представителей, умеющего не только убедительно обосновать свою
позицию по конкретной теме, но и метким словом, удачной репликой сразить
наповал лидера противника.
И здесь Браце не было равных, Браца
прекрасно знал Югославскую литературу, народную поэзию, фольклор, имел глубокие
знания по истории, богословию, изучил латынь и в совершенстве владел
несколькими европейскими языками. Силен он был и в классической литературе. И
неудивительно, что, обладая колоссальной памятью, он был па голову выше своих
сверстников и на диспутах не боялся сразиться с самыми искушенными. Слушать его
было одно удовольствие.
Высокий стройный бледнолицый брюнет с
красивыми сверкающими глазами, в строгом черном костюме и белой рубашке,
выходил он на трибуну актового зала гимназии, и в зале, переполненном
молодежью, где все кипело и гудело от споров, с его появлением наступала
тишина. Прекращали перешептываться даже профессора, умолкали самые болтливые
девицы. Все ждали интересного выступления и не обманывались в своем ожидании. А
уж в том, что после его выступления будет жаркая дискуссия, можно было не
сомневаться.
Высокообразованные отпрыски
«отцов» города, натасканные репетиторами, гувернерами и организованные в партии
правого толка, благожелательно относившиеся к монархическому правительству и
обласканные им, не желали сдавать своих позиций. Они тоже боролись за умы и взгляды молодежи. Любая прямая
атака со стороны прогрессивно настроенных людей на монархический строй, на
белградских хапуг-монополистов, на святая святых — частную собственность, на
религию приводила их в ярость. Больше того, за свободолюбие можно было и вылететь
из учебного заведения. Власть строго следила за молодежью. Стоило только
Слободану на литературном вечере процитировать несколько абзацев из романа
Максима Горького «Мать», как он тут же вылетел из гимназии. Не сметь про
Максима Горького и упоминать даже, а кто осмелится ослушаться — выгнать с
«волчьим билетом» из гимназии королевства! Другой наш товарищ, Реля Стефанович, был исключен из педагогического
училища лишь за то, что сослался в своей речи на великого сербского
революционера-демократа и мыслителя Светозара Марковича. Не сметь про
революционеров! Вон из педагогического училища королевства!
|
|
|
Стефанович Реля, член руководства подпольной
комсомольской организации педучилища,
участник восстания 1941 года, комиссар южнобанатского партизанского отряда.
Пал смертъю храбрых в январе 1944 года |
Браца как раз тем и был неподражаем в
своих выступлениях, что мог не только в лоб сразить правого оппонента, но и в
иносказательной форме умел многое дать понять, умел выразить мысли и чаяния
молодежи, не касаясь злободневных тем непосредственно. Он находил такие
исторические параллели, брал для выступлений такие царства и королевства, о
которых дозволено было говорить, и на их примере показывал, что королевство не
богом данное, вечное создание, а преходящее явление, что общество — живой,
постоянно развивающийся и меняющийся организм. И хотя он говорил вроде бы о
днях давно минувших, все понимали, что речь идет о нашем времени, о нашем
королевстве. Блестящие доклады о взаимосвязи литературы и революционных
процессов в истории Франции, Германии, в нашем сербском
национально-освободительном движении начала XIX века создали Браце непререкаемый
авторитет у гимназистов и всей мыслящей молодежи города. Его постоянно выбирали
в правление литературного общества.
Главными оппонентами Брацы правые
выдвинули двух братьев Раичей, сыновей высокопоставленного чиновника. Они
получили хорошее домашнее образование, много занимались спортом. Братья Раичи
верховодили в фашистской молодежной организации «лётичевцев» и в спортивном
обществе «Сокол». Мечтали она о влиянии на культурную жизнь гимназии. Хорошо
сложенные, прекрасно, с иголочки одетые, на «корзо», молодежных гулянках, и в
городе держались они снисходительно, этакими суперменами, которые могут и
«врезать» со скуки. Вокруг них всегда вертелись прихлебатели из богатых семей
и, что греха таить, многие девушки засматривались на них.
Раичи были самолюбивы и рвались на трибуну.
Браца, зная степень их подготовки, их невысокий литературный уровень, давал им
возможность высказаться, чтобы эти фашиствующие молодчики предстали перед
молодежью во всей своей «красе». И лишь затем выступал сам, укладывая их на
лопатки, показывая всю гнусность и мерзость фашистской идеологии. Вот одно из
характерных выступлений. Раич-старший на трибуне. Он бодро и самоуверенно
вещает слушателям о своей преданности монархизму, своем восхищении модными
придворными поэтами, писателями, пересказывает известные положения литературных
хроник правительственной печати, которые всем уже набили оскомину. Затем
следует несколько цитат из Ницше,
и от теории Раич переходит к
положению дел в Германии и Италии, где «сверх человеки» Гитлер и Муссолини
ведут свои страны к процветанию.
После выступления посыпались заранее
приготовленные нами вопросы: разделяет ли докладчик взгляды Гитлера и
Муссолини, полностью или частично, как, по его мнению, живется чехам в
протекторате, в каком состоянии находится литература в фашистских государствах
и другие.
Сокрушительной была отповедь Брацы. Под
бурное одобрение зала он так отделал новоявленного «теоретика» фашизма, что тот
не знал, куда спрятаться, а Браца спокойно закончил свое выступление:
— Может, вы, представители фашистской,
идеологии среди сербской интеллигенции, своим рвением и заслужили бы признание
гитлеровцев. Да ведь беда в том, что по розенберговским расистским меркам ваше
великолепное телосложение не подходит под нормы, установленные для арийцев, и вы как славяне подлежите
уничтожению в случае их победы.
Да как можно проповедовать
идеологию неприкрытого презрения к собственному народу? Или вы полагаете
заслужить благосклонность своим рабским послушанием, а может, вы перейдете в
католичество или поменяете славянскую фамилию на немецкую? Наш народ в
результате своей пятивековой борьбы против турецкого ига убедился, что «Потурица
гори от Турчина» (Отуречившийся хуже турка (серб.разг.) –примеч.
авт.)
с
подобными субъектами не то что о литературе, вообще не о чем говорить!
Последние слова Брацы утонули в буре
аплодисментов. Молодой Раич полез было драться, но вовремя спохватился. И не
только потому, что большинство в зале было на стороне Брацы. Браца и один на
один расправился бы с ним. У нас все знали, что только трое парней в городе
делают «сальто», и среди этих троих был Браца. В драке его мало кто мог
одолеть, и не случайно его считали двужильным. Раичи силу уважали. Раич-старший
оказался поумнее брата, почуяв, что молодежь качнулась в сторону Брацы,
суетливо начал доказывать свою любовь к свободе и независимости, попытался все
свалить на то, что их неправильно поняли, но было поздно. Приклеилась к ним
кличка «потурица», а с таким позорным прозвищем нечего было и думать о
лидерстве среди молодежи.
Была в нашем городе хорошая традиция: ко
дню рождения святого Савы, великого сербского просветителя конца XII столетия, объявлялся конкурс на лучшее
произведение в гуманитарных и естественных науках. Конкурс проводился по семи
дисциплинам: сербскохорватской литературе, иностранной литературе, латыни,
истории, математике, физике, химии. Работы подавались специальному жюри под
шифром. Шифры раскрывал председатель жюри на торжественном заседании, которое
проводилось в самом фешенебельном городском зале «Гликман».
«Отцы» города были уверены, что
святосавские премии, как правило, достаются детям из обеспеченных семей, а для
этой уверенности у них были веские основания. Ведь как-никак дети богачей имеют
лучшие условия для учебы, родители нанимают для своих чад репетиторов, вместе с
ними путешествуют по стране и за границей, а это, несомненно, расширяет их
кругозор, да и читают они больше. Может, поэтому «отцы» города были за
«демократию» и денег на премии не жалели. Пусть, мол, побеждает сильнейший.
Торжественный святосавский вечер зимы
1939 года запомнился, наверное, не только мне, но и многим его участникам, а уж
отцам города и подавно.
Зал светится, блестит. За час до начала
заседания мы с товарищами уже на балконе, отведенном для молодежи. Здесь, как и
на всех литературных вечерах, молодежь разделилась по группам: слева сидят
«якобинцы», в середине балкона — «болото», а справа — «жирондисты». Внизу
бурлит зал, он постепенно заполняется. В ложах и в первых рядах рассаживается
местная знать, затем, строго соблюдая субординацию, — чиновники, торговцы,
богатые крестьяне. В задних рядах, прямо под нами, — простые труженики —
рабочие, ремесленники, крестьяне. К семи часам вечера зал и проходы битком
забиты людьми. Я забыл сказать, что наш город — родина Йована Стерии Поповича —
великолепного сербского комедиографа, не случайно в народе его даже называют
нашим Гоголем, предтечей известного Нушича. Поэтому неудивительно, что в Вршаце
еще с середины прошлого столетия любили театр, пьесы Стерии и Нушича знали
наизусть, смотрели со знанием дела, по достоинству оценивая и великолепную
сатиру автора, и тонкости игры актеров. Вот почему на этом празднике после
торжественной части всегда давали хорошую пьесу.
Ровно в семь на сцену выходит
градоначальник, открывает заседание и приглашает на сцену жюри. Поднимается
занавес. Хор исполняет гимн в честь просветителя Савы. Доклад о деятельности
Савы и значении просветительства делает директор гимназии Сучевич. Слушают его
не очень внимательно, все с нетерпением ждут, когда он перейдет к главному —
выявлению победителей конкурса. Но вот на сцену вносят запечатанный ящик, в
котором лежат конверты с расшифрованными девизами. Пока члены жюри
распечатывают ящик, директор Сучевич уже начал торжественную речь:
— Уважаемые господа! Уважаемые родители и
горожане! Уважаемые гимназисты! Разрешите мне сообщить вам решение жюри,
принятое в соответствии с правилами святосавских конкурсов и на основе
объективной оценки наших многоуважаемых специалистов, плодотворно потрудившихся
в комиссиях... Первое место по сербскохорватской литературе под девизом
«Лебедь» на тему…
Зал замер в ожидании. Я от напряжения
даже сжал кулаки. Очень уж мне хотелось, чтобы первое место взял кто-нибудь из
старших комсомольцев или хотя-бы сочувствующих нашему движению. Есть же на
свете справедливость, думал я, высшая справедливость. Ну, если ты есть, помоги
же сейчас. Директор просит достать из открытого ящика конверт с девизом
«Лебедь», раскрывает его.
Слышно, как трещит сургуч и шуршит под его
пальцами бумага. Наконец он торжественно читает — «Лебедь» — это многоуважаемый
выпускник нашей гимназии Братислав Петров!
Хор многоголосо провозглашает: «Виват!
Виват! Виват!» Браца выходит на трибуну, принимает поздравления,
раскланивается. Ему надевают через плечо ленту победителя, вручают подарки. Зал
разрывается от рукоплесканий, мы — левая сторона на балконе — просто
неистовствуем. Правые помалкивают, учтиво, тихо аплодируют.
Директор успокаивает зал поднятием руки и
продолжает: «Первое место за лучшее сочинение по латыни под девизом «Спартак»,
— члены жюри достают конверт с девизом «Спартак» и передают его директору, —
...присуждено... присуждено... — брови у директора поднимаются от удивления, и
он сразу не может выговорить фамилию. Но вот он берет себя в руки и
скороговоркой произносит: — Это, господа, также выпускник нашей гимназии
Братислав Петров!
Хор повторно провозглашает: «Виват!
Виват! Виват! В зале уже бушует буря. Мы на балконе бешено аплодируем.
Но на этом наш праздник не кончился. Не
буду пересказывать все перипетии вечера, скажу только, что Браца получил первые
премии и по математике, и по физике, и по химии, и по истории. Такого еще не
было за все время конкурсов. Когда директор объявил итоги последнего конкурса
по зарубежной литературе и, прочитав девиз, начал открывать конверт, чтобы назвать
фамилию победителя, зал уже вовсю скандировал:
— Браца! Браца Петров! Бра-ца Пет-ров!
И люди не ошиблись! Все аплодировали
стоя, смеялись каким-то добрым смехом, чувствуя, что являются свидетелями
необыкновенного события — рождения настоящего таланта! Подумать только — Браца
получил семь первых премий!
Мы на балконе стучали ногами, так как
хлопать уже не могли, отбили ладони. Наши голоса слились в одно протяжное
«ура-а-а!». Даже правые на время будто забыли, что Браца «красный», и гордились
им. Людей объединяла одна мысль: вот какого орла вскормил наш город!
Я с балкона заметил, что внизу, у сцены,
собираются качать Брацу. Шепнул ребятам, и мы вместе сорвались вниз. На
лестничной площадке столкнулись со старым Раичем и генералом Станковичем. Они
зло отчитывали своих отпрысков. Раич шипел, как змея:
— Эх вы, шалопаи, столько денег на вас
перевел, а толку что? Индюки безмозглые! Что? С носом остались? Семь кукишей
вам Петров показал. Он хоть и «красный», а вам бы его в репетиторы пригласить!
Сплюнул и пошел. А надутый солдафон,
старый генерал Станкович, постукивая саблей как палкой, только повторял:
— Что вы наделали! Что вы наделали!
Качали мы Брацу с упоением, сорвали с
него галстук-бабочку, нечаянно, конечно, и лишь поняв, что он может остаться и
без пуговиц, опустили его на пол. Но молодежь еще долго не отпускала его от
себя, да и старшие с удовольствием подходили к Браце, вновь и вновь поздравляли
с блестящей победой.
А после
спектакля молодежь танцевала. Браца повел коло — «Баначанку». Высокий,
стройный, гордый и счастливый, он танцевал вдохновенно и с большим искусством:
голова совершенно неподвижна, плечи изгибаются только в такт ритма, а ноги
ускоряют и ускоряют свою вязь, пока музыканты, достигнув предела, могут
поддерживать максимальную скорость танца. И, не выдержав более минуты этого
бешеного соревнования с танцором, опускают руки.
Потом
танцевали огненную «самбу». Была в моде и «кукарача», танец со свободными
движениями и выкрутасами. Браца танцевал все время. Его приглашали из танца в
танец, а он только улыбался всем своей доброй улыбкой. Девушки с ума посходили,
облепили его со всех сторон как снежный ком, и ему от них не было отбоя. Сам я
не танцевал, стеснялся своего маленького роста и очень завидовал танцующим: А
на девушек злился так, будто Браца был моим возлюбленным:
— Могли
бы и сообразить, что у Брацы есть девушка, и нечего на нем виснуть! Просто
противно на них смотреть, ведь уже взрослые, а не ведают, что творят!
У Брацы
действительно была девушка, и я знал о его любви к ней, но смотрел на это
неодобрительно. Для меня понятия «революционер» и «любовь» в то время были
несовместимы. Какая может быть любовь, когда идет ожесточенная борьба, когда
все душевные силы должны расходоваться только на наше святое и правое дело. А
эти шуры-муры только отвлекают, да еще как! Не понимал я тогда, что мои доводы
— чистейшей воды резонерство, не понимал и потому не одобрял любовь Брацы.
|
|
|
Ольга Радишич, в предвоенные годы
секретарь комитета комсомола в педучилище г. Вршац, организатор первых
диверсионных групп в районе г. Панчево. Схвачена гестапо 21.01.1941 г,
09.05.1942 г. расстреляна. Посмертно Народный герой Югославии. |
А полюбил Браца Ольгу — Ольгицу,
как мы ее ласково называли. Училась она в педагогическом училище на старшем
курсе и руководила комсомольским подпольем училища. Ольгица часто бывала у нас
дома на встречах подпольщиков, приходила она к отцу и матери за книгами, и мы к
ней привыкли как к родной. Мы считали ее самой красивой девушкой в городе.
Черные волосы, нежный румянец на белом лице и большие, удивительно красивые
черные глаза, излучавшие доброту, нежность и радость жизни, — вот какой была
наша Ольгица.
Полюбили они друг друга крепко, и любовь
их была счастливой, но недолгой. Но какая это была удивительная пара!..
Уча уделял серьезное внимание способной,
талантливой молодежи. Следил он и за Брацей, за его гармоническим развитием и
неоднократно подчеркивал, что революционер должен воспитывать в себе честность,
стойкость, постоянно учиться и, главное, знать нужды простого народа. Только
обладая всеми этими качествами, можно вести за собой народные массы на борьбу
со злом. И Уча, не покладая, рук растил кадры революционеров, а в них
так нуждалась страна в те неспокойные годы.
— Ты можешь многое хотеть, — говорил Уча
молодым подпольщикам, — но твое «хотение» останется пустой мечтой, если ты не
обладаешь обширными познаниями, необходимыми в повседневной работе. Ты можешь
овладеть глубокими знаниями, но не принесешь пользы народу, если не воспитаешь
в себе стойкости борца. Классовый враг найдет тысячу способов заставить тебя
вместе с твоими знаниями служить ему, а не народу. И, наконец, можешь ты быть и
знающим и стойким, но если не усвоишь насущные нужды своего народа,
деятельность твоя не принесет пользы, и ты будешь блуждать в потемках.
Браца хорошо усвоил заветы Учи. Его часто
можно было увидеть среди рабочих скотобойни, а в предрассветные часы — на
рыночной площади города, где его фигура мелькала в толпе наемных
сельскохозяйственных рабочих, которые пришли продать свою рабочую силу и ожидали
выхода управляющих имениями, желая узнать, кому из них повезло. Уча знакомил
Брацу с самыми различными людьми, и Браца внимательно всматривался в их
обросшие щетиной морщинистые лица, в глаза, в которых застыло горе и старался
понять их, а если мог, то и помочь.
Окончив гимназию, Браца поступает на
юридический факультет Белградского университета. В университете не требовали
обязательного посещения лекций, и Браца по заданию Учи устраивается рабочим на
мясокомбинат, где создает первичную профсоюзную организацию. К концу 1940 года
Браца по указанию Учи полностью переходит на подпольную работу, руководит
комсомолом Воеводины.
Я так подробно рассказал о Браце потому,
что, по моему глубокому убеждению, это замечательный человек, и, сколько о нем
пи говори, все мало. И если бы мне удалось хоть в малой степени передать мое
представление о нем, я был бы счастлив.
ПОДПОЛЬЩИКИ
Жизнь шла своим чередом. Днем мы
занимались повседневными делами, по ночам продолжали работать в типографии,
печатали книгу. Мы напряженно работали над книгой уже три месяца. Все старались
на совесть, помогало в работе и соревнование. Со временем все овладели сложным
процессом печатания на шапирографах. Особенно спорилась работа у девушек. В их
проворных руках бумага ложилась на желеобразную массу шапирографа без малейшего
пузырька, они ловко снимали ее, и оттиск получался великолепный. Это была
утомительная, монотонная работа, она изнуряла нас, и неудивительно, что мы
уставали, ведь мы к тому же работали ночью. Старшие товарищи, чтобы поддержать
нас, как-то разнообразить утомительный труд, делали время от времени перерывы;
устраивали интересные дискуссии о прочитанных книгах, обсуждали просмотренные
фильмы, рассказывали о международной обстановке и положении дел в стране, о
том, что в капиталистических странах простой народ нищает, а монополии наживают
на приготовлениях к войне баснословные прибыли, делали экскурсы и в историю.
Особенно мы любили слушать, когда нам рассказывали о Парижской коммуне и
Великой Октябрьской революции в России.
В один из вечеров к нам пришел Уча и
между делом завел такой разговор:
— Вот мы работаем, боремся. Но жизнь не
стоит на месте, идет вперед, и не исключено, что революционные перемены
произойдут и в нашей стране. Народ победит, возьмет власть в свои руки. Работы
будет непочатый край. Интересно бы узнать, чем каждый из вас хотел бы тогда
заниматься, какую бы выбрал себе работу?
Все приумолкли, не ожидая такого
поворота. Наконец Старшой улыбнулся и говорит:
— Ну, Уча, ты и придумал! До победы еще
очень далеко. Даже представить трудно, что мы в скором временя одолеем буржуев.
— А ты все-таки скажи! — подзадоривал его
Уча.— Давай, давай, скажи! Интересно, чем бы ты стал заниматься после победы
революции?
Мы загалдели все разом, перебивая друг
друга, наседая на Старшого.
— Ну, если так хотите знать, я вам скажу.
— И Старшой сразу посерьезнел. — После нашей победы очень бы мне хотелось
работать в большой библиотеке.
Мила была уверена, что после победы
революции все преступники исчезнут разом с лица земли и надобность в юристах
отпадет, некого будет судить, не с кем будет бороться, и потому она пожелала
переквалифицироваться во врача. Для этого она решила закончить медицинский
факультет. Ей очень хотелось лечить детишек. Моя мать профессию учителя менять
не пожелала, она только мечтала работать не в обыкновенной школе, а на курсах
по ликвидации неграмотности среди взрослых. Уж больно много было у нас в стране
не умеющих читать и писать.
Брат Слободан твердо решил стать
художником. Но больше всех меня удивил ответ Брацы, удивил и понравился очень.
Он мечтательно произнес:
— Если мы относительно быстро победим,
поеду помогать делать революцию товарищам в других странах. Им, наверное,
трудно будет начинать, а у нас опытные товарищи и без меня разберутся, как
строить новую жизнь, что делать, чтобы народу жилось лучше.
Когда очередь дошла до меня, и Уча
спросил, что я собираюсь делать после победы революции, я повторил ответ Брацы,
так как ничего лучшего придумать не мог: помогать другим товарищам делать
революцию — это же так здорово!
Очень интересно старшие товарищи
проводили с нами и уроки «стойкости перед классовыми врагами». Давно известно,
что подпольная деятельность сложна и опасна и здесь нужно верить в товарищей
как в самого себя. Закон для всех один: если кто-то провалился — умри, а
товарищей не выдай! Предателей ненавидели больше, чем врагов. Старшие на
конкретных примерах показывали нам, как вели себя в подобных ситуациях опытные
революционеры. Мы слушали затаив дыхание их рассказы о бывалых политкаторжанах,
прошедших изощренные пытки и допросы в полиции. Какие только пытки ни применяли
к легендарному Попиводе, а он молчал и не проронил ни единого слова, вызвав
бессильную злобу палачей. Ему ломали кисти рук и ног, проверяли на нем новые
изощренные пытки, но он товарищей не выдал. А отважная и мужественная Цана! Ей
заталкивали в рот огромное количество соли, чтобы заставить заговорить. Когда у
нее начиналась жажда, сводящая с ума, мучители перед камерой с журчанием
разливали воду, усиливая страдания и муки заключенной... Но и Цана молчала,
никого не выдала. Как-то старый коммунист, рабочий Илия, рассказал нам о
провале подпольной организации Воеводины:
—
Зимой 1936 года волна жестоких полицейских репрессий неожиданно обрушилась на
многие организации компартии в Воеводине. Полиция арестовала Учу и еще около
400 человек из различных районов, в том числе в группе из Вршаца и меня.
Сволокли нас всех в Бечкерек, где проводилось главное дознание. Тюремные камеры
были переполнены. Каждый день допросы, избиения, пытки. Полиция хотела пытками
запугать арестованных и хотя бы кое у кого вырвать признание, заставить все
рассказать о работе подпольной организации, а затем на основе этих признаний,
домыслов, показаний провокаторов устроить образцово-показательный процесс над
коммунистами как террористами и бандитами. Конечно, после такого процесса
многие наши товарищи отправились бы на долгие годы на каторгу, движение было бы
обезглавлено.
Пытали людей по-разному: свяжут человека
между двумя железными кроватями и прыгают по нему, бьют, отбивая жизненно
важные органы, почки, легкие. Или привяжут ноги к рукам, подвесят и отбивают
ступни. Так продолжалось дни и ночи, изощреннее всего пытали нашего Учу. На нем
палачи испробовали все свои пытки. Но заключенные держались, товарищей не
выдавали. И как ни старались заплечных дел мастера держать в тайне свое
обращение с заключенными, из тюрьмы все же просачивались на волю кое-какие
сведения. По стране поползли слухи о жутких, нечеловеческих условиях, в каких
содержатся в тюрьме арестованные. Парламентская оппозиция сделала правительству
запрос. Для видимости полиция решила отремонтировать камеры, в которых
содержались наши товарищи. Заключенных временно свели в большой зал.
Лежим рядами на полу, избитые,
окровавленные. Кто охает, кто молчит. Некоторые товарищи вскрикивают в забытьи.
В зале-камере полутемно, замызганный светильник помаргивает под потолком.
Поздно ночью, когда дежурные тюремщики задремали, слышу — кто-то ползет. На
одних руках подполз, ноги не слушаются. С лицом, черным от побоев, вместо ушей
волдыри. Не узнал я его сразу, пока до сознания не дошел знакомый шепот Учи:
«Товарищ, слушай!..»
Уча медленно переползал от одного к
другому, перешептывался с людьми, подбадривал, советовал, как вести себя
дальше, как отрицать показания провокаторов, что говорить на суде. И так всю
ночь до рассвета, от товарища к товарищу, несмотря на израненное, истерзанное
тело. Палачи особенно постарались обработать его. Казалось на теле живого места
не осталось, в чем только душа жила, все оно кровоточило, положить только в
гроб да обмыть... Я смотрел на него с гордостью. Каждый из нас после разговора
с Учей чувствовал новый прилив сил, и мы уже твердо знали, что вынесем любые
пытки, любые муки и не выдадим товарищей, раз среди нас есть такие, как Уча!
И на судебном процессе, который проходил
в 1940 году в городе Петровграде (сейчас город Зренянин, названный так в честь
нашего Учи), Жарко вел себя очень мужественно и из подсудимого фактически
превратился в обвинителя палачей. Он не побоялся сурового наказания и использовал
предоставленную ему возможность рассказать людям правду о пытках и избиениях,
каким подвергаются в тюрьмах заключенные. Как только ему дали слово, он тут же
заявил решительный протест против зверств полиции:
«...В полиции требовали, чтобы я признал,
что был у Сечепия, а так как я отказался, меня избивали несколько полицейских.
Сначала мне связали руки, затем ноги. Между руками и ногами под коленями
протащили палку, которую поставили на два стула. Подошвы ног оказались высоко
горизонтально, и меня били по подошвам воловьими жилами. Били меня очень долго, а
затем опустили на землю. Так как я отказался признать то, что они хотели, меня
продолжали бить от 7 вечера до 11.30 ночи. Это было 4 мая с. г. ...Один агент
бил меня кулаком и ногой, стараясь попасть в область почек... Когда меня
скинули со стульев, ноги мои опустили в уксус с луком. Избиение,
описанное выше, повторялось три раза. В промежутках 7—8 полицейских били меня
дубинками, кулаками, жилами куда попало... давили мне сапогами пальцы ног... Прекратили
пытки только тогда, когда убедились, что
на мне не осталось
живого места, и когда поняли, что избиением меня не заставят подписать нужные
им показания».
Уча много раз сидел на каторге, с 1936 по
1940 год власти несколько раз его арестовывали, но никакие пытки не могли
сломить его железную волю. Арест же в 1940 году вообще плачевно обернулся для
королевского суда. Власти сделали процесс открытым и просчитались. Речь Учи,
произнесенная на процессе, вышла за стены суда и стала известна народу. Она потрясла
не только Воеводину, ее переписывали во всех областях страны и учили по ней
молодых подпольщиков. Свою знаменитую речь Уча произнес перед переполненным
залом от имени 21 обвиняемого. В последнем слове он бросил в лицо: «Я здесь не
защищаюсь, я здесь обвиняю. Я перед своей совестью, перед своим народом и перед
идеей, которой служу, не чувствую ни малейшей вины!
Меня здесь обвиняют и называют
государственным преступником, врагом своей страны только потому, что я коммунист, что всеми силами
борюсь против предателей моей Родины, продающих ее в рабство фашизму, что
приветствую установление дипломатических отношений с Советским Союзом. Все это
мне инкриминируют как коммунистическую пропаганду, хотя весь наш народ считает,
что именно благодаря СССР нашу страну еще не втянули в эту ужасную
империалистическую войну. А судят меня как раз те, кто открывает двери нашей
страны перед гитлеровской солдатней...
Я обвиняю полицию, которая, подвергая нас
пыткам, нанесла удар по основным правам человека. Требую, чтобы они вместо нас
сели на скамью подсудимых. Требую...»
Сидел я рядом с матерью в зале суда,
слушал затаив дыхание громовой голос Учи и восхищался им. Как можно так просто
и доходчиво говорить! Его слова разили наповал врагов и вселяли уверенность в
товарищей по движению, они заставляли нас гордо поднимать голову. Какая же огромная сила таится в правде!
Я был потрясен, и мне начинало казаться, что портрет покойного самодержца
Югославии, висящий над головой председателя суда, колышется и вот-вот рухнет, а
вместе с ним рухнет и само здание, и все наше прогнившее королевство.
Уча все говорил, гордый и спокойный перед
лицом врага. А вокруг него стояли вооруженные жандармы, в зале находились
переодетые вооруженные агенты.
О процессе над двадцатью одним
югославским коммунистом и их справедливой борьбе с ненавистным режимом сообщило
радио Москвы в сентябре 1940 года.
Это была, конечно, большая победа! Но
были у нас и неудачи. От них никто не застрахован, и в основном наши неудачи
связаны с предательством. Подполье не может жить иллюзией, что к движению
примыкают только честные люди. Полиция засылала к нам провокаторов, были
случаи, что кто-то из товарищей не выдерживал пыток.
Поэтому наши руководители, разговаривая с
нами, с молодежью, откровенно предупреждали нас, что мы должны быть готовы к
самому худшему, даже к пыткам. Враг у нас опытный и коварный, полиция засылает
в наши ряды своих людей, рано или поздно с этим придется столкнуться. И тогда
многое будет зависеть от наших человеческих качеств: стойкости, веры в себя и
товарищей, и если вы не дрогнете в трудную минуту, выстоите, то и организация
будет продолжать жить и бороться.
Нет ничего страшнее предательства. Кто
чувствует себя слабым, кто идет к нам из любопытства и желания выделиться, тому
не место в наших рядах. Об этом нам на уроке стойкости говорил Сава,
студент-старшекурсник с юридического факультета, для нас непререкаемый
авторитет, ведь он уже успел пройти и каторгу, и суровую школу подполья.
— Товарищи вы мои любимые! Взвешивайте и
реально оценивайте свои силы. Лучше отойти в сторону и честно сказать, что не
выдержишь пыток, чем стать предателем. Для нашего движения ведь не имеет
большого значения, как стал человек предателем, со страху ли после первой
пощечины или на дыбе было невмоготу. Результат один и тот же, с той лишь
разницей, что тех, кто проявил слабинку сразу, полиция обычно использует на все
сто процентов, постепенно делая из них полноценных предателей. Думайте об этом,
прежде чем связать окончательно свою деятельность с нашим движением.
|
|
|
Сава Мунчан, секретарь подпольного
окружного комитета КПЮ, комиссар штаба партизанских отрядов Южного Баната.
Погиб смертью храбрых 05.09.1941 г. |
Мила слушала Саву, как и все,
внимательно, а потом то ли спросила, то ли, рассуждая сама с собой, произнесла
вслух:
— Легко тебе, Сава, говорить, ты свою
проверку прошел. Думать об этом, конечно, нужно и можно, а вот как проверить
себя в обычной обстановке? Способен ли выдержать пытки? Ошибиться ведь нельзя!
Мне показалось, что у нее уже созрело
какое-то решение и она хочет поделиться со своими товарищами. Но больше Мила
ничего не сказала.
Через несколько дней меня попросили
передать Браце одно важное поручение. Чтобы не столкнуться с отцом Брацы,
который не одобрял взглядов своего сына и его участия в нашем движении, я
всегда заходил к нему в дом со стороны сада, а не с улицы. Вот и на сей раз,
перемахнув через забор, подошел тихо к Брациной комнате, заглянул в окно... и
от удивления замер на месте. На полу лежали связанные по рукам и ногам Беба,
Неца, Драгица и Мила, а Браца бичом стегал их по босым ступням. Лица у девчат
напряженные, от боли корчатся, слезы катятся по щекам, но молчат, губы
прикусили, звука не проронят.
Я от неожиданности вскрикнул и сорвал
«проверку стойкости». Заметили они меня, втащили в комнату и долго уговаривали,
чтобы я никому из товарищей не рассказывал об увиденном и доме Брацы.
— Это мы так, — говорит Беба, — устроили
себе небольшую проверку. А старшим говорить не нужно, не поймут...
Мила была очень довольна, что не
произнесла ни звука при избиении. Мы вместе возвращались домой, и я искоса
смотрел, как она элегантно прихрамывает. Глядя на нее, я вспомнил проверку и
почему-то невольно усмехнулся. Мила заметила мою ухмылку, остановилась и, нахмурившись,
произнесла:
|
|
|
Беба – Елизавета Петрова, студентка
юридического факультета Белградского университета, член подпольного окружного
комитета КПЮ, пала смертью храбрых 06.03.1942 г. |
— Слушай, смешного тут ничего нет. Любое
серьезное дело нужно знать до тонкостей. Просто так верить нельзя! Понимаешь? Может
и хороший человек не выдержать...
Глядя на Милу, я удивлялся, как могли
сочетаться в ней мягкость, красота, доброта со стойкостью и даже жесткостью,
когда речь заходила о наших врагах. И тогда ее голубые прекрасные глаза
обретали стальной оттенок. Печатать книгу мы закончили ранней весной. Тяжелая и
опасная работа сблизила нас. Мы привыкли к нашим ночным встречам, привыкли к
шуткам, дискуссиям. Но пришла пора расставаться. Последний день совместной
работы над книгой мы решили отметить. Мать испекла большой пирог и всех
угостила чаем. На прощание мы спели наши любимые песни. Надолго нам запомнились
сказанные в тот вечер Старшим слова:
— Вы, товарищи, сделали большое дело! Но
ни при каких условиях вы не должны обмолвиться об этом даже словом. Полиция давно
разыскивает нашу типографию...
|
|
|
Драгица Петров «Анка»,
Профессор, член окружного штаба антифашистского сопротивления, руководитель
подпольной печатной техникой округа, схвачена гестапо 08.09.1941 г. Под
тяжелейшими пытками даже своего имеи не сказала палачам, так и была
расстреляна как подпольщица «Анка». |
Волновался отец не зря. Недели через
полторы после окончания работы полиция пронюхала о чем-то, и наш дом был
подвергнут обыску. Перевернули все вверх дном, но типографских принадлежностей
не нашли, так и ушли несолоно хлебавши. Очень я гордился отцом, который мог
делать тайники, недоступные лучшим сыщикам полиции.
ЛАГЕРЬ НА ТЕСТЕРЕ
Время летело быстро. Мила, Браца, окончив
гимназию, поступили учиться в университет на юридический факультет, и мы все
реже и реже видели их. Мне иногда казалось, что без них наше гимназическое
подполье осиротело. Но жизнь не стояла на месте, и иные дела, иные события
захватывали нас.
15 сентября 1939 года я запомнил на всю
жизнь. В этот день меня приняли в подпольный Союз коммунистической молодежи
Югославии. Это было огромной честью. Моим «крестным отцом», человеком, который
рекомендовал меня в члены подпольного Союза коммунистической молодежи, был
Браца. Я уже давно участвовал в подпольной работе, выполняя различные поручения
старших, работал в подпольной типографии. Но одно дело — фактическое участие и
совсем другое — официальный прием в коммунистический союз молодежи. Меня
распирало от гордости, что я причастен к такой славной организации!
Напомню, что коммунистическая партия и
комсомол в те годы работали в глубоком подполье. Рабочие предприятий, студенты
университета, гимназисты не знали, кто из их товарищей коммунист или
комсомолец. Для пополнения своих рядов организация сначала очень внимательно
присматривалась к человеку, которого хотела принять в коммунистическую партию
или комсомол, изучала его, проверяла в конкретном деле, давая отдельные
поручения. И только проведя необходимую проверку, выдержав своего рода
испытательный срок, человека принимали.
|
|
|
Неца – Лукреция Анкуцич, студентка
факультета лесного хозяйства Белградского университета, член подпольного
окружного комитета КПЮ, схвачена
гестапо 31.07.1941 г., повешена
14.10.1942 г. |
Подпольное движение структурно имело
строгую организацию. Первичной единицей была ячейка, и вновь принятого товарища
определяли в одну из таких ячеек, поэтому он знал только двух-трех товарищей и
никого больше. Делалось это по конспиративным соображениям, чтобы в случае
провала не могло пострадать все движение. Считалось недопустимым расспрашивать
о дальнейшей организационной структуре подполья и о конкретных товарищах,
входящих в нее. Мы занимались печатанием листовок, книг, выполняли, как нам
говорили, важное задание. Но никто из нас не задавал вопросов: с кем из старших
товарищей мы связаны, какие кто выполняет задания. И любой вопрос был бы
воспринят как призыв к бдительности: то ли человек его задал из простого
любопытства, то ли у него что-то на уме. С целью конспирации при знакомстве
применялись партийные клички, и мы в основном знали партийное имя товарища, а
не его настоящую фамилию.
Жалко было расставаться с Брацей, Милой,
уехавшими на учебу. Правда, вместо них наша подпольная молодежная организация
пополнилась другими замечательными людьми, сильными и смелыми: Драганом,
Еленой, Перой (Драган — Лукич Драгослав, в 1940 году
секретарь подпольного комитета комсомола гимназии, во время оккупации активный
участник народно-освободительной борьбы в Сербии; Елена Варяшки – член подпольного комитета
комсомола г. Вршаца, активная участница восстания, арестована гестапо
06.09.1941 г., расстреляна 09.05.1942 г.; Пера — Стойкович Петр, член руководства
комсомола в гимназии, активный участник восстания 1941 года, повешен гестапо в
1942 году — примеч. авт.), Слободаном (Миличевич Слободан — родной
брат автора, примеч. ред.). А осенью сорокового года Драган поручил уже мне
сформировать комсомольскую ячейку среди четвертых классов в гимназии. Были
приняты в комсомол Урош и Тиха (Урош — Стефанов Урош, активный участник
восстания и народно-освободительной борьбы, живет в Сербии; Тиха – Ацкета
Тихомир, активный участник восстания и народно-освободительной борьбы, живет в
Сербии – примеч. авт.), мои лучшие друзья-подпольщики.
|
|
|
Елена Варяшки – член подпольного
комитета комсомола г. Вршаца, активная участница восстания, арестована
гестапо 06.09.1941 г., расстреляна 09.05.1942 г. |
Работы у нас было немало, так что скучать
не приходилось. Мы занимались пропагандой книг Максима Горького, Николая
Островского, Джека Лондона, проводили антирелигиозную пропаганду, вовлекали
талантливую молодежь в наше левое крыло литературного общества «Скерлич»,
собирали «красную помощь», организовывали футбольные и шахматные соревнования
между классами. Все это позволяло нам лучше узнавать молодежь и сплачивать ее вокруг
нашего движения. Работали мы дружно. Старшие товарищи умело направляли нас, но
мне, как я уже говорил, очень не хватало Милы и Брацы.
Обстоятельства сложились так, что
товарищи по подпольной типографии встретились еще раз все вместе. И это было
для нас огромной радостью.
Коммунистическая партия, используя
легальные формы деятельности, организовала летом 1940 года молодежный
спортивный лагерь на Тестере, что на Фрушке-горе, километрах в ста
северо-западнее Белграда. Днем мы занимались спортивными играми, тренировками,
отдыхали, а ночью, выставив дозоры, разбивались на кружки и изучали основы
марксизма. И каково же было наше удивление, когда, читая вводную лекцию,
товарищ из центра вынул из портфеля те самые книжки, напечатанные в нашей
типографии нашими руками. Заканчивая свое выступление, товарищ из центра сказал:
|
|
|
Пера — Стойкович Петр, член руководства
комсомола в гимназии, активный участник восстания 1941 года, повешен гестапо
в 1942 году |
— Обращаю ваше внимание на то, что к этим
книгам нужно особенно бережно относиться. Их мало. Они после вас нужны будут
другим, Берегите их! Товарищи, которые делали их, рисковали головой!
Мы, конечно, и вида не подали, что как-то
причастны к столь важному делу, но в глазах наших ребят и девушек было столько
радости и гордости, что .хотелось тут же встать и обнять их от избытка
нахлынувших чувств. И только где-нибудь уединившись, мы могли в разговоре
многозначительно обронить, что без нас все эти ребята так бы полуграмотными в
политике и остались. Знай, мол, наших! А
если я видел, что кто-то из товарищей, читающих книгу, обращался с ней
небрежно, с моей точки зрения, то не удерживался и делал замечание:
— Не слюнявь пальцы, когда страницу
переворачиваешь, дорогой товарищ! И уголки не загибай, вредно это для книги да
и некультурно! Вот так-то.
Читающий смотрел на меня недоуменно,
думая, наверное, что я зануда, и не понимая, почему у молодого товарища такой
вредный характер.
Одним из руководителей нашего лагеря был
Браца. Весь день он носился по лагерю, забот и дел у него было по горло. Нужно
было обеспечить нас питанием, организовать полноценный отдых, и об охране
подумать, и о маскировке, и чтобы мы зря не болтались без дела, занимались
регулярно политучебой, а в тех условиях всё это было сделать нелегко. Но, главное,
необходимо было так построить жизнь двух сотен молодых людей, чтобы после
проведенного на Тестере лета эти люди ушли и духовно и физически закаленными,
еще больше сплоченными вокруг коммунистического движения, уверенными в нашей
скорой победе.
Жили мы в палатках, и наш палаточный
городок имел свои улицы: Горького, Лондона, Гарибальди, Чапаева, гайдука
Станко. Мы были организованы в отряды по улицам. На полном самообслуживании поочередно
трудились на кухне, на уборке и охране территории. Для нас все это было ново,
жизнь в лагере казалась нам прообразом будущего мира, прекрасного и
справедливого. И мы с радостью встречали каждое утро коллективной жизни.
|
|
|
Предраг Миличевич и Тихомир Ацкета, |
Нас нетрудно понять. Мы были островком
новой жизни, который со всех сторон захлестывал мир частной собственности,
индивидуализма, эгоизма, где каждому было дело только до самого себя, и
совершенно никого не интересовала судьба ближнего. Мы ненавидели этот мир и
мечтали схлестнуться с ним в открытом бою. Нам ненавистны были и монархический
строй и манипулирование буржуазными свободами. Мы были ярыми республиканцами и
видели нашу страну после революции свободной республикой братских народов.
Продажная пресса, государственный идеологический аппарат обвиняли коммунистов
во всех смертных грехах и пугали народ диктатурой, распространением небылиц об
антидемократизме, к которому якобы стремятся коммунисты. И поэтому нам
необходимо было твердо усвоить принципиальную позицию коммунистов по вопросу
власти и демократии, уметь эту позицию пропагандировать и доходчиво объяснять
простым людям. Занятия наши проходили в полуразрушенном зале заброшенного
помещичьего особняка, расположенного рядом с нашим палаточным городком. Один из
талантливейших руководителей коммунистического подполья, Тоза, проводил с нами
занятия по теории. Он мог популярно объяснить самые трудные вещи, о которых мы
имели очень смутное представление:
— Да, мы за строжайшую дисциплину
коммунистов и их отрядов в условиях подполья, — говорил он. — Мы за
безоговорочное подчинение первичных ячеек вышестоящим партийным органам. В
противном случае, если у нас не будет порядка, буржуазный насильственный
аппарат, превосходно организованный, раздавит нас сразу же. Пролетариат и его
боевой авангард в условиях подполья не имеет другого действенного оружия, кроме
своей организованности и дисциплины, кроме единой организации, сплоченной общей
целью и волей к победе. Когда же произойдет победа революции — мы за
народовластие, полную демократию. Но, как говорит наш учитель Ленин, революция
чего-то стоит лишь тогда, когда она может защитить свои завоевания, постоять за
себя. Поэтому мы за ленинское понимание народовластия — полную демократию для
трудового народа и ограничение прав для эксплуататорских классов. На страже
такой демократии должен стоять организованный, вооруженный пролетариат, и мы в
этом смысле за его диктатуру. Другого пути в послереволюционном устройстве
общества нет, ибо, как показывает история революций, все другие пути вели в конечном
счете к поражению, к потере всех завоеваний.
|
|
|
Тоза – Светозар маркович, орг. Секретарь
краевого комитета КПЮ, комиссар штаба партизанского отряда Воеводины, схвачен
19.11.1942 г. , повешен 09.02.1943. Посмертно Народный герой Югославии |
Необходимо иметь в виду, — продолжал
Тоза, — народу все уже осточертело и особенно самодержец-король со своей
несменяемой камарильей приспешников, никому не подотчетных, продажных и
безответственных болтунов. Нарастающее стремление народа освободиться от
королевской власти совпадает с нашими представлениями о послереволюционном
устройстве общества. Народу нужно доходчиво объяснить, что мы за такое
устройство общества, в котором руководители избираются на определенные сроки, в
своих действиях подотчетны народу, строго подотчетны. Хватит нам королей!
Коммунистам с народом строить после победы социалистическое общество, а это
возможно только при широком народовластии.
Мы сидели на полу и внимательно слушали
Тозу. Нам все было понятно, а принципиальные положения о будущем устройстве
общества после победы казались четкими, логичными и легко претворяемыми в
жизнь. Смущало всех одно: очень уж вопрос о послереволюционном устройстве
общества выглядел теоретическим, больно далекой казалась победа над
существующим режимом. Но мы верили, что так оно и будет и время, о котором
говорил Тоза, наступит и для нашей страны.
|
|
|
Деян Бранков, в
предвоенные годы секретарь подпольного райкома КПЮ, член повстанческого
комитета Воеводины, командир партизанских отрядов Южного Баната, погиб смертью
храбрых в конце октября |
Постепенно наше движение набирало силу, и
все больше представителей рабочих, трудового крестьянства, мыслящей
интеллигенции вступало в наши ряды. Коммунисты возглавили все прогрессивное
движение за новое переустройство общества, становились все уверенней в своих
силах. И как горный поток, захватывая на своем пути все новые и новые воды,
расширяется и стремительно несется вперед, так и в наше движение по мере его
роста вливались все новые и новые люди. Идеи социалистического переустройства
общества обладали такой притягательной силой, что многие уже видели тот день,
когда ненавистный режим падет.
В тяжелых условиях подполья сама жизнь
выдвигала на руководящие посты преданных делу людей, честных талантливых
организаторов, способных повести за собой трудовые массы на схватку с врагом.
Примазывались, естественно, к движению и случайные люди, полиция засылала
провокаторов, чтобы развалить движение изнутри. Но рано или поздно их выводили
на чистую воду, ведь трудно не увидеть, когда большинство работает не за страх,
а за совесть, человека, который разваливает работу, организует провокации.
Обратная связь тут действует неумолимо, срабатывает безотказно. И с предателями
расправлялись безжалостно.
Однако с явными провокаторами бороться
было легче, чем с другой категорией лиц, примкнувших к движению. В наши ряды
вступали и такие, кто видел в своем участии в движении прежде всего выгоду для
себя. Среди них были и очень неглупые, способные, но честолюбивые натуры. Мы
слышали от Савы, Деяна и Марко о таком странном явлении, какое представляли в
нашем движении «салонные коммунисты» Белграда и Загреба. Часть сербской
либеральной буржуазии и интеллигенции, настроенная традиционно профранцузски и
проанглийски, была не прочь для приобретения авторитета в народных массах
поговорить о демократическом преобразовании общества, о проведении социальных
реформ. С этой целью они заигрывали с коммунистами. А пока эти горе-либералы
занимались безобидной болтовней, их милые детишки учились в Париже и Лондоне.
От родителей они наслышались красивых слов о прогрессе и необходимых переменах,
и когда в югославских университетах вспыхнуло мощное студенческое движение, они
примкнули к прогрессивно настроенной молодежи. В то время стало модным в
богатых салонах поразглагольствоватъ за чашкой кофе или чая о социализме,
марксизме и прогрессе, о революционных преобразованиях в обществе. Вот этих
молодых отпрысков наших богачей, которые так умело разговаривали о социализме,
в народе и прозвали «салонными коммунистами», или, короче, «комсалонцами». Они
участвовали в студенческих и рабочих демонстрациях, наживая себе политический
капитал, и наравне с настоящими борцами за свободу народа делили славу
революционеров. Но была у них, по словам Савы, одна привилегия. Когда полиция
разгоняла демонстрантов, хватала участников, зверски избивала их и бросала в
тюрьмы, «салонцы» тоже попадали в руки полиции, но тут же после звонка
высокопоставленных родственников их отпускали целыми и невредимыми, и они
спокойно продолжали учиться. Сава из-за этого скептически к ним относился, не
доверял. А если еще учесть, что рабочее движение в нашей стране развивалось в
мелкобуржуазной стихии, в экономически отсталом, слаборазвитом королевстве, где
на общественную жизнь, наряду с социал-демократами, оказывали сильное влияние
оппортунисты, троцкисты, фашисты, к тому же в дела государства постоянно
вмешивались высокоразвитые страны Запада, такие, как Франция и Англия, то можно
себе представить те трудности, которые испытывало наше движение.
Засиживались мы в полуразрушенном
особняке почти до рассвета. Так много всего рассказывали нам учителя, что мы не
сразу могли осмыслить услышанное. Были и такие лекции, которые мы почти не
воспринимали. Например, лекции по критике и самокритике, по философии. Нам
казались рассматриваемые на них предметы общими и непонятными, совершенно
ненужными в нашей борьбе. Кого критиковать? Наших руководителей? Так они лучшие
из лучших. Своих товарищей? Да и они хорошие. Себя? Совсем уж глупо, разве я
хуже других? А лектор, девушка из Нового Сада, все говорит и говорит о критике
и самокритике, как важно критиковать и что без этого даже не может быть
движения вперед! Четвертая глава «Истории партии» тоже давалась нам с трудом.
«Материя есть то, что, действуя на наши органы чувств, производит ощущение,
материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях... нельзя отделить
мышление от материи, которая мыслит...» Как все это сложно и непонятно! Так
думал я, это же читалось на лицах многих ребят. Но у меня было хоть слабое утешение:
я еще молодой, и у меня все впереди, еще успею, разберусь. «Дух, сознание,
ощущение, психическое – вторично» никак это не укладывалось в моей голове,
сколько я ни старался понять.
Какой дух? Какая-то чертовщина... Я же с
1934 года не верю ни в бога, ни в черта, ни в святого духа! Даже не по себе
становится. Лампочка тускло мигает под потолком, оглядываюсь, многие дремлют,
даже мой кумир Сава и тот, закрыв глаза, блаженно улыбается. Что же это такое!
Ведь он руководитель, а спит на такой трудной и ответственной лекции! Ну и ну!
И меня словно вдруг осенило... На следующем занятии по критике и самокритике я,
подождав, пока самые лихие ребята начали дремать, и Сава, как всегда, закрыл
глаза, попросил слова у нашей симпатичной руководительницы и высказался.
— Вот, — говорю тихонько, — ты объясняешь
нам про сложную материю, и как все это важно, а не видишь, что большинство
мирно дремлет.
Ребята и девушки, которые не спали,
зашевелились, растолкали задремавших, те, не понимая, почему их потревожили,
бессмысленно смотрели на меня. Я, все больше распаляясь, продолжал:
— Даже такой товарищ, как Сава, который
не раз объяснял нам важность этих занятий, и тот заснул!
Посмотрел я на ребят, и мне их
жалко стало, и с критики меня уже потянуло на самокритику:
— В порядке самокритики скажу. Я понимаю,
почему я на занятиях не сплю... У меня перед старшими товарищами преимущество,
хоть это и не значит, что я их оправдываю...
Сава, приходя в себя, переспросил:
— Это ты о каком преимущество говоришь, я
что-то не понял?
— Тут и понимать нечего, — говорю. — Вы,
особенно девушки, все перевлюблялись друг в друга и, вместо того чтобы днем
поспать немного перед занятиями или вздыхаете, или гуляете... Вот и клюете
носом на занятиях. А я этим делом не занимаюсь и из сознательности, и по
молодости лет...
Мой старший брат, Слободан, перебил меня:
— Товарищи, что тут непонятного? У него
«преимущество»!
И как захохочет! Все прыснули вслед за
ним, зашлись
до слез. Только и слышно вокруг:
«Преимущество», нашел «преимущество», — еле успокоились, так я всех рассмешил.
Но все-таки порешили: дремать на занятиях нехорошо, «преимущество» нужно всем
иметь, а для этого днем нужно спать часок-другой, — и установили своего рода
«мертвый час».
После моего «критического выступления»
многие товарищи не могли пройти мимо меня без улыбки, а если я подходил к
группе ребят, то кто-нибудь обязательно подшучивал надо мной:
— Посторонитесь! Идет к нам товарищ с
«преимуществом»!
Сава — человек принципиальный, он меня
похвалил за выступление, а вот от улыбки удержаться не мог. А вообще-то у нас с
ним, как он говорил, была мужская дружба. Товарищ он был прекрасный, правда,
для меня почти старик, ведь тогда мне те, кому было под тридцать, казались
стариками. Я любил этого профессионального революционера, смелого, веселого
человека, прошедшего с честью муки полицейского ада, каторгу. Часто он заходил
к нам домой, о чем-то шептался с отцом, да и так просто на огонек забегал. Мы
радовалась каждому приходу: любили его у нас в семье. Был он невысокого роста,
коренастый и очень крепкий, с правильными чертами лица, черными как смоль
волнистыми волосами. В юности занимался гимнастикой, я тоже хотел научиться
делать всякие упражнения, и при случае он меня учил делать стойку на его
вытянутых руках. Как-то дома были только Сава, Любима и я. Сава меня
тренировал, показывал, как нужно делать стойку. Родители куда-то ушли, и мы
спокойно занимались. На вытянутых Савиных руках я неумело качнулся, потерял
равновесие, упал на спину, и очень неудачно. У меня даже дух захватило. Подняли
меня на ноги, а я все никак не могу воздуха глотнуть. Прошла минута, другая, и
по мере того, как я бледнел, все больше и больше волновался Сава. Испугался он
за меня страшно. А тут, как назло, появились родители. Пока они входили в дом,
я немного отошел, смог свободно вздохнуть, и Любима с Савой начали меня щипать
за щеки, пытаясь вызвать румянец на моем пожелтевшем лице. И действительно, от
щипков румянец появился, лицо же у Савы от испуга оставалось более мела. На
вопрос отца, что случилось, я ответил, что мы с Савой занимались гимнастикой,
он неудачно упал, потерял сознание и ему все еще плохо. Родители заохали,
захлопотали вокруг него, а нам стало ужасно смешно, и мы еле сдерживались,
чтобы не расхохотаться. Этот случай еще больше сблизил нас с Савой. Я часто
делился с ним своими мальчишескими секретами, и у нас было полное
взаимопонимание.
В лагере на Тестере мы не только
занимались делом, но и отдыхали. Особенно нам доставляли удовольствие
спортивные игры, а уж о футболе и говорить не приходится, мы могли гонять мяч
целыми днями. Я играл в одной команде с Савой, Брацой, Слободаном и другими
взрослыми ребятами нашего округа. Наша команда защищала честь Южного Баната,
играли мы и против напористых меленчан и против куманчан, обыгрывали и
новосадских (Жители крупных деревень Меленцы и Кумане в Северном Банате.,
столицы Воеводины Нового Сада — примеч. авт.) ребят. Была у нас и художественная
самодеятельность. Девушки подобрались голосистые, особенно любили петь Станка,
Ольгица, Неца, Елена. Ставили мы и скетчи, смеялись все от души.
Давно это было, более сорока лет прошло,
а в памяти от тех дней осталось что-то очень светлое, доброе, уж больно
чистыми, бескорыстными и братскими были наши отношения!
Запомнился мне и последний вечер,
проведенный в лагере на Тестере. Теплая южная ночь, звезды крупные, как на
детских рисунках. Мы разожгли громадный костер, и все собрались вокруг огня.
Отблески костра освещали наши лица, товарищи из самодеятельности читали стихи,
пели, а потом мы все вместе танцевали вокруг костра. Закрыл сбор в лагере уже
далеко за полночь Браца. Он взобрался на импровизированную трибуну, высоко
подрезанный пень, и подвел итоги нашей работы-отдыха, с мягкой улыбкой похвалил
нас за удачи в учебе, отметил и недостатки, а затем, заканчивая свое выступление,
сразу посуровел и сказал:
— Нас окружает мир бесправия, насилия,
нищеты и голода, нас захлестывает море мещанствующих обывателей, море эгоизма и
себялюбия, тупость и оголтелая злоба власть имущих. Мы с вами выбрали путь
борьбы с бесправием, за свободную и счастливую жизнь простого народа. Перед
нами трудный путь, но мы молоды, и нам по плечу предстоящая нелегкая схватка с
насилием и злом. Мы объединены одной целью и вместе представляем силу, которую
не сломить никому.
Через час мы, товарищи, расстанемся,
вернемся в свои родные места для того, чтобы донести до масс свет правды и с
еще большей энергией разжечь пламя борьбы рабочего класса за освобождение от
гнета капитала. Возглавляет наше движение славная КПЮ. Но сейчас обстановка
обострилась, и нам предстоит не только борьба с ненавистной монархией, но и
тяжелейшая схватка с германским фашизмом. Мы не одни в этой борьбе, с нами
Советский Союз, героическая партия большевиков. Общими усилиями мы одолеем всех
врагов, победа будет за нами. И это будет, товарищи... наш последний и
решительный бой...
Браца запел «Интернационал». Песню
подхватили вначале те, кто сидел поближе к «трибуне», а затем запели и
остальные. Вскоре вся дубрава, окружавшая лагерь, звенела от наших голосов:
«Это есть наш последний...» Мы пели, и гордость от того, что мы открыто поем
свой революционный гимн, наполняла наши сердца. Раньше мы пели «Интернационал»
только шепотом. Здесь, в лагере на Тестере, мы не боялись ни полицейских, ни
жандармов, ни шпиков. Мы, молодые, сильные люди, спаянные единой целью и
благородной идеей, в преддверии предстоявших боев стояли на прекрасной горе,
опьяненные окружающей нас красотой, и пели самую замечательную песню на земле.
Было от чего прийти в восторг! По-моему, до этого вечера ни Фрушка-гора, ни Срем,
ни даже вся Воеводина не слышали такой задорной, молодой и вдохновенной песни,
как наш «Интернационал».
ПАВКА
В начале 1941 года в нашем доме появилась
книга. Неказистая на вид, в серой картонной обложке, сильно зачитанная и
потрепанная. Книга была напечатана типографским способом на газетной бумаге, но
заголовка на обложке не значилось. По величине – как том детской энциклопедии,
только потолще. И оформлена она была не ахти как. Но что это была за книга! Даже в таком скромном и
неприметном оформлении книга Николая Островского «Как закалялась сталь» стала
для нас самой дорогой и близкой и, что очень важно, совершенно необходимой.
Среди подпольщиков и сочувствующих товарищей о романе Николая Островского и его
герое Павке Корчагине давно уже ходили восторженные отзывы, и те, кто прочитал
книгу, относились с большой симпатией и к Павке и к его создателю. На какое-то
время впечатления от всех остальных книг отодвинулись у нас на задний план.
Однажды к нам пришла Мила и спрашивает:
— У вас книга?
— У нас, но на нее такая очередь, что
тебе придется подождать — говорит моя мать, доставая книгу из потайного места.
— Я, тетя Анджа, только посмотрю... Про
нее такое рассказывают...
Взяла Мила книгу, прилегла на наш
диванчик и затихла. Оторвалась только поздно ночью, когда дочитала последнюю
страницу. Даже есть не пошла на кухню, куда ее приглашала моя мать, настолько
захватила ее книга. А когда прочитала, лицо у нее сделалось отрешенное, и она
ушла, думая о чем-то своем.
Не знаю, как сейчас, но для нас, молодежи
сороковых годов, книга о Корчагине была чудом. Прочитав ее, я первое время не
мог понять, как же это я раньше жил без такого замечательного товарища, как
Павка? Тот, кому она попадала в руки, считал себя счастливчиком. Роман «Как
закалялась сталь» сразу же стал для нас классикой, и мы были уверены, что
наступит день, когда книга станет достоянием всех людей. Оставались считанные
месяцы до решающей схватки, и каждому нужно было определиться, по какую он
сторону баррикад. В воздухе уже витал, ощущался острый дух предстоящей схватки
не на жизнь, а на смерть, и он требовал от каждого сделать свой осознанный
выбор.
У нас в подполье чтение книг и тяга к
знаниям были нормой поведения. А иначе и быть не могло. Как же без знаний
объяснить простым людям очень сложные вопросы? Уже как-то после войны я
познакомился с одним подпольщиком из Бачки. Хлебнул он горя предостаточно, как
и многие партизаны. Перекочевывал с одной явки на другую, с базы на базу, от
стога к стогу. Вшей кормил, сам голодал. Но с лета сорок первого и до освобождения
он таскал в своем вещмешке тяжелейший двухтомник гегелевской «Натурфилософии» и
всякий раз в нее при случае заглядывал, все хотел одолеть и понять.
С Павкой было проще. Над этой книгой не
нужно было ломать голову, настолько она просто и доходчиво написана. По ней
учились жить и бороться, а с Павкой советовались, как с живым человеком. Он и
поговорит, и развеселит, поддержит в трудную минуту и утешит, растолкует, как
следует поступить в той или иной обстановке. Павка знал, что главное в жизни, и
на мелочи не разменивался.
Он умел и врага побить, и в бою не
дрогнуть, и человека пожалеть. И все без лишних слов! Павка был свойский
парень, с которым никогда не пропадешь. Но он был и выше нас, нам было до него
ох как далеко! Он сгорел в борьбе за светлое и лучшее будущее своего народа
весь, без остатка. Вот почему молодежь тянулась к нему, стремилась ему
подражать. Он помогал нам в нашей нелегкой борьбе. Корчагин начинил нашу
молодежь огромным сгустком энергии, боевым зарядом, и мы ему за это благодарны!
Через несколько месяцев Гитлер нападет на
Советский Союз, и коммунисты Югославии поведут лучших сынов народа на борьбу с
фашистской нечистью. Из многих факторов складывается такое историческое
событие, как народное восстание. В семидесяти восьми партизанских отрядах,
возникших жарким летом сорок первого года на территории Сербии, Воеводины,
Черногории, боролось более двух третей молодежи. Книга о Корчагине переходила
из рук в руки. Мало было таких, кто не знал Павку. Восстание рождалось и
продолжалось в боях, его топили в крови, люди умирали от ран, от голода и
холода, от пыток в застенках гестапо. Самых лучших, самых стойких товарищей в
народе называли Корчагиными. Павка слился с восставшим народом и вместе с ним
шел к победе.
«БОЛЬЕ РАТ, НЕГО ПАКТ!»
Лучше война, чем пакт!
(серб.). — примеч. авт.
Надвигалась хмурая весна 1941 года, не предвещавшая
ничего хорошего народам Югославии. Германия уже покорила Данию, Норвегию,
Бельгию, Голландию, заставила капитулировать Францию; Австрия, Чехословакия и
Польша были завоеваны несколько раньше. Вся Западная Европа была под пятой
Гитлера, и только Англия еще сопротивлялась. Готовясь напасть на Советский
Союз, Гитлер стремился прибрать к рукам и Балканы, чтобы мы не путались у него
под ногами.
И здесь он преуспел. Венгрия, Румыния и
Болгария присоединились к тройственному пакту. Оставалось только сломить
сопротивление Греции и решить вопрос с Югославией.
Наше продажное правительство выступило за
присоединение к тройственному пакту, но власти тянули с окончательным решением
этого вопроса, опасаясь народного гнева, и, как показали дальнейшие события,
опасались они не напрасно. Однако Гитлер все усиливал давление на наше
правительство и где окриком, а где и прямой угрозой заставил присоединиться к
пакту. Гитлеру необходимо было побыстрее покончить с проблемами на Балканах, и
25 марта 1941 года прогерманское правительство Цветковича официально подписало
акт о присоединении Югославии к тройственному союзу. По этому договору
Югославия обязывалась снабжать германскую и итальянскую военную промышленность
сырьем и рабочей силой. Наши рудники, угольные и железорудные, находились
теперь под контролем немцев. Югославское правительство обязалось также
пропускать немецкие войска через свою территорию на греческий фронт.
В сложившейся обстановке нужно учесть,
что исторически отношения между народами Югославии и Австро-Венгерской империи
по вине последней складывались ненормально. Веками помещики Австро-Венгерской
империи и ее северного соседа Германии нещадно угнетали южных славян, грабили,
убивали, и наш народ никогда не смирялся с таким положением, а с оружием в
руках отстаивал свою независимость. Много славных страниц вписали в историю
нашей страны борцы за свободу и независимость, и никогда наш народ не склонял
голову перед оккупантами. И потому подписание тройственного пакта народ
расценил как еще одно предательство, как фактическую капитуляцию страны перед ненавистными врагами, смириться с этим он не
мог.
Во главе борьбы за национальную честь
встали коммунисты.
Мощные народные демонстрации состоялись в
столице Белграде и в провинциях: Сербии, Боснии, Воеводине и Черногории.
Создавшейся ситуацией воспользовалась проанглийски настроенная часть буржуазии,
которая совместно с английской разведкой провела дворцовый переворот и заменила
одно продажное правительство другим. Но эти дни также показали, что коммунисты
обладают в народе большим влиянием и уважением и являются той силой, которая
может лишить предателей народа власти. Показали эти события и другое:
коммунисты еще не стали той силой, которая могла взять власть в свои руки.
25 марта, под вечер, в городе Вршац
появился Уча. И сразу же провел в нашем доме совещание подпольного горкома
совместно с руководителями легальных организаций: «Абрашевич», «Фрозни»,
«Женское движение». В совещании участвовало человек пятнадцать самых активных
деятелей подпольного движения, и среди них такие товарищи, как Деян, Анджа,
Браца, Неца, Беба, Руди, Илия, Елена, Яни. Уча разработал тактику дальнейшей
борьбы в сложившейся обстановке, поставил конкретные задачи. Допоздна совещался
он с Деяном, секретарем подпольного райкома, и они решили не прекращать борьбу,
продолжать выводить народ на демонстрации против предательской капитуляции
правительства Цветковича. С этой целью было решено объединиться со всеми патриотическими
силами, с националистическим движением, со всеми людьми доброй воли,
выступающими против фашизма и подчинения Югославии гитлеровской Германии. Не
упустили и детали, тут же разработали план конкретных действий: как оповещать
людей перед выходом на демонстрацию, кто отвечает за связь с массами, придумали
тексты лозунгов.
Днем Уча уехал, я его провожал до
вокзала. Время было тревожное, рыскали кругом полицейские ищейки, выслеживали
вожаков нашего движения, и мы опасались за Учу. Но все обошлось благополучно,
он уехал в другой город поднимать народ на борьбу. Мне было приятно, что я
выполнил важное задание подполья и Учу не схватили.
Оставшиеся в городе товарищи — Деян,
Браца, Яни, Неца, Старшой, Беба, Анджа — действовали согласно детально разработанному
плану и вывели народ на демонстрацию. Демонстрация была организована четко: с
трех сторон спускались колонны демонстрантов от окраин к центру города. Браца
руководил молодежью, наладил связь с националистами из спортклуба «Сокол». Мы
по его заданию должны были собраться у педагогического училища, пробиться к
центру города и там, на площади перед магистратом, соединиться с другими
колоннами демонстрантов. Сбор был назначен на семь часов вечера.
Запомнил наш город Вршац этот вечер 26
марта 1941 года! Никогда еще столько народа не выходило на его улицы, и никогда
еще люди не протестовали с такой яростью и гневом против политики
правительства, обманувшего собственный народ и предавшего его интересы
фашистской клике.
По городу уже поползли слухи, что в столице
проходят мощные демонстрации протеста, Белград отрезан войсками, и демонстранты
возводят на площадях и улицах города баррикады... «Отцы» Вршаца не на шутку
испугались и тоже готовились к атаке. Полиция получила подкрепление, власти
подтянули жандармерию. Генерал Станкевич для устрашения вывел из казарм свои
эскадроны, которые с гиком проносились по улицам растревоженного города.
Обыватели пугливо захлопывали ставни, запирали свои лавки и удивленно
перешептывались:
— Да что это такое? Ох, не к добру это,
не к добру!
Наша колонна, собравшись около семи
вечера в назначенном месте, начала движение к центру города намеченным
маршрутом, скандируя боевые лозунги:
- Бо-ле рат, не-го пакт!
Са-вез с Ру-си-jом!
(Лучше война, чем пакт! Союз с Россией!
– серб., примеч. ред.)
Полиция мешала нам спокойно двигаться
вперед, и стычки с ней начались задолго до центра города. Нас разгоняли, но мы
снова собирались в колонны, а когда поняли, что в таком порядке нам не
пробиться к центру, стали действовать врассыпную и дворами, переулками в обход
полицейских кордонов все-таки приближались к цели. Площади и переулки вокруг
центра были оцеплены полицейскими, жандармами. Наша колонна благополучно
собралась опять, к ней присоединились новые люди, и, держась за руки, мы двинулись
к ратуше, куда уже пробились другие демонстранты. Мы так решительно шли, что
под нашим натиском полицейские цепи не устояли, расступились, и, радостные,
возбужденные, громко крича, мы соединились на площади с остальными колоннами.
Площадь звенела от человеческих голосов.
— До-ле
Хит-лер, Му-со-ли-ни!
— Бо-ле гроб,
не-го роб! Са-вез с Ру-си-jом! *
(Долой Гитлера, Мусолини!
Лучше в гроб, чем быть рабом! Союз с Россией! – серб., примеч. ред)
Площадь
распевала тысячеголосо нашу боевую песню:
|
Ланци
нам се кују
клети. Крвави се спрема рат, Ал' пре
ћемо ми умрети Него
своје земле дат! * |
Подлый враг грозит расправой, Хочет в цепи заковать. Лучше пасть в бою со славой, Чем страну свою отдать! |
Мы ее пели на мотив русской партизанской
песни «По долинам и по взгорьям...». Слова и мотив нашей песни нам очень
нравились, о происхождении ее мы и не подозревали.
Генерал Станкевич двинул на нас новые
отряды полицейских и жандармов, полицейские пустили в ход дубинки. Мы же были с
голыми руками, и единственным нашим оружием было непоколебимое стремление
довести до победы начатое дело. Полицейские не церемонились с нами, они били
нас по головам, спинам; трещали пиджаки, плащи. Дюжие жандармы хватали и выволакивали
людей из наших рядов, утаскивали их во двор ратуши. Операцией по разгону
демонстрации руководил сам генерал.
Станкевич кричал:
— Зачинщиков хватайте, зачинщиков...
Мы чувствовали, что долго не выдержим,
разобьют нас, разгонят. И вдруг, когда стало уже совсем невмоготу и наши ряды
здорово поредели, Браца скомандовал;
— Всем петь гимн!
Я сначала подумал, не случилось ли что с
ним, ведь его крепко двинули дубинкой по голове, но Браца еще раз повторил
приказ и сам запел:
— Боже, краља чувај...
(Боже,
храни короля» — (серб.), примеч. авт.)
Мы подхватили, и — о чудо! — полицейские
и жандармы застыли по стойке «смирно». Ну точь-в-точь как в одной финальной
сцене пьесы. У генерала Станкевича от удивления рот вначале остался широко
открытым, потом он длинно матерно выругался. Как Браца додумался до такой
великолепной идеи — получить передышку пением гимна, — знает, наверное, один
бог, но нас этот ловкий прием в тот вечер выручал часто. Только нам станет
жарко, мы за гимн, и полицейские на какое-то время прекращали избиение.
Сказывалась казарменная муштра. Мы же использовали передышку для
перегруппировки сил и, еще теснее сомкнув ряды, вновь продолжали скандировать:
— До-ле вла-ду из-дай-ни-ка! - Жи-ве-ла
сло-бо-да! - До-ле Хит-лер, Му-со-ли-ни!
(Долой
власть предателей! Да здравствует свобода! Долой Гитлера, Мусолини – серб.,
примеч. ред.)
Разогнала нас полиция только после
полуночи. Правда, Деяна, Анджу, Брацу, Старшого и еще нескольких наших
руководителей арестовали, но ведь и мы нагнали страху на полицию.
Утром сообщение — правительство
предателей пало! Союз с Германией разорван! К власти пришло проанглийское
правительство. Арестованных товарищей освободили. Мы снова вышли на
манифестацию, но теперь уже в поддержку правительства, расторгнувшего союз с
фашистами. Нас никто уже не разгонял, и мы спокойно прошествовали по городу.
А на балконе ратуши стояли как ни в чем
не бывало те же «отцы города» во главе с генералом Станкевичем, словно не по их
приказу сутки назад полиция разгоняла демонстрантов и лупцевала по нашим
головам дубинками. Они не просто наблюдали за демонстрацией, а, стараясь
перещеголять друг друга в красноречии, горячо выступали в поддержку нового
правительства. Вот ведь какая метаморфоза произошла с ними всего за одну ночь!
КАПИТУЛЯЦИЯ
Шестого апреля 1941 года германские
танковые. армады напали на Югославию, за двенадцать дней разгромили королевскую
армию и оккупировали всю страну. Силы были неравные, регулярным немецким
войскам помогла и «пятая колонна» среди королевского офицерства в армии. Армейские
части либо попали в плен, либо стихийно самораспустились, и солдаты разбрелись
по домам; одни бросали оружие, другие брали его с собой, надеясь использовать в
борьбе с ненавистными завоевателями.
И все же у многих людей не укладывалось в
голове, как получилось, что государство с пятнадцатимиллионным свободолюбивым
народом, имеющим вековые традиции борьбы с оккупантами разных мастей, на
двенадцатый день войны подписало позорную капитуляцию. Даже Гитлер не ожидал
столь легкой победы, когда начинал войну с Югославией, и наше поражение
послужило ему поводом для насмешек; по его словам, его удивили две вещи в
балканской кампании: героизм греков и трусость югославов. Трусливым оказался,
конечно, не народ, а его продажное правительство и высшее королевское офицерство.
Позже народ Югославии прекрасно доказал это своей самоотверженной, героической
борьбой с оккупантами. Обычно историки отмечают, что причина поражения в войне
сорок первого года в общей слабости страны, в неравном промышленном и военном
потенциале, в предательстве принца Павла, в том, что на престоле находился
недоросль-король, но обходят молчанием и громадную силу гитлеровцев. И на этом
ставят точку. Все это правильно, но не названа еще одна причина. К сожалению, у
нас и раньше были правители-предатели, «незадачливые» короли, и раньше наши
народы вели неравную борьбу с могущественными империями, держались, оказывая
достойное сопротивление превосходящим силам противника. Наша тысячелетняя
история наполнена бунтами, битвами, победами и поражениями, войнами за свободу
и независимость, и не было до этого в истории случая, чтобы Сербия и Черногория
принимали ультиматум, подписывали позорную капитуляцию. Наш народ порабощали,
но даже в самые тяжелые дни он не складывал оружия, продолжал борьбу.
Примеров тому много. В 1389 году Сербия
отклонила наглые притязания турецких завоевателей, предводимых Муратом I. В
Косовской битве погибло сербское войско, погиб и предводитель его — царь
Лазарь. Завоеватели поработили Сербию, но битва на Косовом поле — одна из славнейших
страниц нашей истории. Не было позорной капитуляции, не было мира между
поработителями и порабощенными. Земля горела под ногами завоевателей, они не
знали покоя ни днем ни ночью. Пять веков боролась Сербия против рабства. Народ
увековечил своих героев, о них слагались легенды, пелись песни.
Черногория в течение пяти веков
находилась в состоянии войны с Турцией и не покорилась.
В XVIII, XIX и первой половине XX
столетия можно найти немало примеров драматической борьбы нашего народа с
иноземными завоевателями. Не поддались насильственной ассимиляции словенцы,
сербы за Дриной, Савой и Дунаем, сохранили свою национальную самобытность и
достоинство хорваты.
Историческое восстание сербов против
турецкого ига в начале прошлого века явилось венцом пятивековой борьбы. И хотя
восстание 1804—1813 годов было залито кровью и жестоко подавлено, народ и не
думал складывать оружия и в конце концов победил.
Убийство австрийского наследного принца
Фердинанда в июне 1914 года послужило поводом для Австро-Венгерской империи,
чтобы предъявить Сербии ультиматум. Маленькая Сербия с достоинством отвергла
диктат империи. И не только отвергла, сербский народ поднялся от мала до велика
на защиту своей родины. После нападения австро-венгерских войск сербская армия
перешла в контрнаступление, и 16—18 августа 1914 года в известной в истории
Церской битве сербское войско разгромило армию великой империи.
Конечно, в сражениях нашего народа за
независимость силы всегда были неравными, и нам бы не одолеть своих противников,
если бы на помощь не приходил великий русский народ, или, как любовно у нас
называют Россию, «маjка Русиjа (Мать
Россия – серб., примеч. ред.)
Много раз Россия поддерживала своих братьев,
южных славян, и морально, и политически, и силой оружия. Всегда, когда Турция,
Англия, Франция, Австро-Венгрия посягали на интересы южнославянских народов, на
помощь приходила Россия. Почему? Жизненные интересы России и южных славян
совпадали в своем историческом развитии, и старший брат-славянин никогда не
оставлял в беде своих братьев по крови. Братство наше проявлялось не раз и на
полях сражений, и в мирной жизни. Конечно, в России, как и у нас, у власти
находились такие же самодержавные властители, не лучше и не хуже, но они всякий
раз вынуждены были считаться с мощным валом народного движения.
Примеров из богатой истории
сотрудничества наших народов как в далеком прошлом, так и в период великой
пролетарской революции в России можно привести множество, но я остановлюсь лишь
на нескольких. Это, надеюсь, не помешает повествованию, а поможет лучше понять
события сороковых годов, о которых пойдет речь дальше.
В жемчужине Южной Адриатики, Боке
Которской, что на Черногорском приморье, в конце XVII столетия обучались
морскому делу четырнадцать русских моряков, посланных сюда Петром I. В музее
города Пераста сохранилась картина, изображающая моряков с их учителем Мартиновичем.
В этом небольшом солнечном городке родился прославившийся в боях против
турецкого флота капитан Матия Змаевич, впоследствии адмирал русского флота.
В 1807 году отряд русской армии под
командованием генерала Исаева пришел в Сербию на помощь восставшему народу.
Сербско-русские войска под командованием нашего Карагеоргия и генерала Исаева
разбили турецкую армию при Малайнице и Штубике. Наши войска громили общих врагов
и в сентябре 1810 года на Варваринском поле в Южной Сербии, где особенно
отличились русские гренадеры под командованием генерала Орурка и сербская
кавалерия воеводы Станоя Главаша. А в октябре 1810 года русский отряд из армии
Каменского уходит к Делиграду с заданием охранять восточные границы Сербии от
турецких войск из Болгарии, в то время как Карагеоргий со своими отрядами
защищал Сербию с запада, откуда также наседали турецкие завоеватели. Известны
совместные сербско-русские победы над захватчиками под Лозницей и Лешницей. А в
октябре 1811 года под Видином грянула еще одна наша общая победа.
Здесь отличился русский генерал Воронцов и
легендарный сербский воевода Велько Петрович.
В начале XIX века русский флот под флагом
адмирала Сенявина освободил Боку Которску. Адмирал Сенявин командовал
объединенными силами русского и черногорского войска при освобождении
Дубровника.
Конечно, эта тяжелая борьба не обошлась
без жертв, Во многих местах непокоренной Сербии находятся могилы русских
солдат, помогавших своим сербским братьям в нелегкой борьбе за свободу и
независимость.
Длительная борьба русского народа против
турецкой империи, почти беспрерывные войны, которые Россия вела против Турции в
XVII, XVIII и XIX веках, подточили силы некогда могущественной Османской
империи, привели к ее фактическому распаду. Именно это позволило небольшим
народам в борьбе с ослабленным врагом добиться создания на Балканах независимых
государств.
Общеизвестно, что целые поколения
сербской, черногорской, воеводинской интеллигенции в XVIII и XIX столетиях
получали образование в Киеве, Петербурге, Москве. И не случайно наш народ
лучших представителей творческой интеллигенции любовно сравнивает с гигантами
русской классики и свободомыслия и называет Вука Караджича сербским
Ломоносовым, Бранко Радичевича — сербским Пушкиным, Стерию Поповича — нашим
Гоголем, Светозара Марковича — сербским Чернышевским...
Но и мы, когда могли, не оставляли
русских братьев в беде и всегда шли им на выручку. Так, в 1914 году после
разгрома австрийских войск на волнистых склонах горы Цер отряды сербской армии
по просьбе России продолжили наступление, чтобы заставить австрийцев хотя бы
частично отвести войска с русского фронта в Галиции. И израненная, измученная
сербская армия нашла в себе силы для наступления, перешла реки Дрину и Саву,
ворвалась на территорию Австро-Венгрии, а черногорские отряды пробились даже до
Сараева, и австрияки спешно вынуждены были снимать войска с других участков
фронта, чтобы залатать образовавшиеся дыры.
В тяжелых, кровопролитных боях за свободу
и независимость народы Югославии научились уважать, ценить братскую помощь, а в
случае необходимости и сами протягивали руку помощи русским братьям. Они
бросались в бой, не считаясь с потерями в даже не дожидаясь призыва о помощи.
Насильственная мобилизация в 1914 году
сербов, проживающих на территории Австро-Венгрии, в императорскую армию и
отправка их на восточный фронт привели к плачевным для империи результатам.
Сербы в массовом порядке переходили на сторону русских, они не хотели воевать против
братьев по крови. И нет еще той силы, которая бы принудила их к этому.
Когда же в России началась Великая
Октябрьская революция, подавляющее большинство югославов, находившихся в плену,
перешло на сторону русского пролетариата, они влились в отряды Красной Армии и,
не щадя жизни, боролись за победу социалистической революции, а некоторые из
них творили чудеса храбрости, как, к примеру, легендарный Олеко Дундич.
1 февраля 1918 года впервые на земле
Балкан, в Боке Которской, народ откликнулся на призыв товарища Ленина не
воевать против Советской России. Моряки сорока военных кораблей австрийского
флота подняли восстание. Гордо развевался на флагмане алый флаг революции.
Моряки избрали ревком, и он предъявил адмиралу Хансе ультиматум — заключить мир
с Советской Россией на основе предложений, выдвинутых Лениным, без аннексий и
контрибуций... Восстание было потоплено в крови...
Общеизвестен подвиг Венгерской Советской
Республики в 1919 году, павшей под ударами империалистической интервенции, но
мало кто знает о подвиге сербских деревень Кусич и 3латица в Южном Банате. Эти
деревни в 1918 году в знак солидарности с пролетарской революцией в России
провозгласили «Советскую республику Кусич и Златица». Восстание крестьян было
беспощадно подавлено.
После окончания Первой мировой войны из
России на родину стали возвращаться бывшие военнопленные югославы. Это были не
простые солдаты. В России они активно участвовали в Октябрьской революции и
гражданской войне. В Банат вернулись тысячи конников и солдат Первой Конной Буденного
и других отрядов Красной Армии. Они несли народу правду о победе рабочих и
крестьян в России, рассказывали, как победивший народ отобрал у буржуев заводы и
фабрики, а у помещиков землю и всем этим богатством пользуется сам, строя новую
жизнь. Пресса в те годы старалась замолчать все то, что произошло в России, и
ни слова не говорила о победе пролетариата и трудового крестьянства над властью
помещиков и буржуев. А уж о том, что происходит в России после победы
революции, как русский народ вместе с другими братскими народами, населяющими
огромную страну, строит счастливую жизнь, уж и говорить не приходится. Но
правда о Стране Советов прорывалась сквозь цензурные рогатки.
Сербы и венгры, участники Октябрьской
революции в России, сыграли значительную роль в организации рабочего движения
Воеводины, особенно в Банате. Были созданы массовые организации
Коммунистической партии Югославии. В одном только Банате членов компартии
насчитывалось к 1920 году почти 6000 человек. Неудивительно, что на выборах в
первый конституционный парламент королевской Югославии в ноябре 1920 года
коммунистическая партия, действовавшая в легальных условиях, добилась больших
успехов. Народ выбрал 51 коммуниста в депутаты парламента, в том числе двух из
Баната. А на муниципальных выборах в том же 1920 году коммунисты победили в
столице Белграде и почти во всех крупных промышленных центрах страны, таких,
как Загреб, Ниш, Скопле, Крагуевац, Осиек, Шабац. Сербская буржуазия на успехи
левых, прогрессивных сил ответила монархо-фашистской диктатурой, ответила, как
всегда в классовых схватках, репрессиями, каторгой, расстрелами, виселицами.
Депутатов-коммунистов арестовали и отправили на каторгу, а коммунистическая
партия вынуждена была уйти в глубокое подполье.
Реакционный режим пытался не только
уничтожить всё прогрессивное в стране, но и предательски обрывал всякие связи с
Россией, искореняя в народе огнем и мечом святые для южных славян традиции. В
то же время в стране насаждалось все то худшее, что имелось на Западе: дух
наживы, стяжательства. В различных слоях населения, особенно среди военных,
истреблялись, нивелировались лучшие национальные черты: свободолюбие,
патриотическая страсть, естественность, простота, блекли национальные обычаи, терялась
самобытность народа.
Двадцать прошедших с того времени лет
королевская власть нещадно угнетала свой собственный народ и держала его в
узде. Органы массовой пропаганды от замалчивания событий в России перешли к
разнузданному антисоветизму. И хотя в Европе уже полыхала вторая мировая война
и на нашу страну со всей очевидностью надвигалась черная громада фашистских
полчищ, продажное правительство продолжало свою политику. Дело дошло до того,
что Югославия, народы которой веками были связаны узами дружбы и братства с
русским народом, одной из последних среди стран капиталистического мира
установила дипломатические отношения с Советским Союзом! Это произошло только в
1940 году. А весной 1941 года, когда до столкновения с Германией оставался
всего один день, проанглийское правительство генерала Симовича наконец-то
согласилось заключить с СССР... договор о ненападении. Робко оглядываясь в
сторону Гитлера — а вдруг еще удастся с ним сговориться! — правительство ничего
не сделало для отражения угрозы со стороны Германии. Наша либеральная буржуазия
считала, что лучше проиграть войну, чем восстанавливать традиционно крепкие
связи с русским народом. Их, как и всех истинных мещан и обывателей, ужасала
сама мысль о сотрудничестве с победившим российским пролетариатом.
6 апреля разыгралась трагедия, и
версальской Югославии через двенадцать дней не стало. Западные союзники,
англо-американцы, бросили Югославию весной 1941 года точно так же, как в 1938
году Чехословакию, а в 1939 году Польшу.
И еще два штриха, читатель, перед
окончанием короткого исторического экскурса.
Никто из многочисленной когорты
королевских генералов, таких властных и грозных перед войной, в героической
эпопее борьбы народов Югославии 1941—1945 годов, в смертельной схватке с
германским фашизмом не участвовал.
А тот самый генерал Станкович, который 27
марта так усердно клялся с балкона ратуши во Вршаце в своей преданности
отечеству, спустя две недели сдал в плен в районе города Ниш крупную
группировку югославских солдат.
Даже короткого объективного исторического
анализа достаточно, чтобы увидеть, что в список причин скоротечной позорной
капитуляции Югославии 17 апреля 1941 года следует включить и отказ югославских
правителей от священного идеала наших народов — дружбы с русским народом, с
СССР.
ОККУПАЦИЯ
Оккупировав Югославию, Гитлер разделил
страну между своими союзниками. Фашистской Италии отдал Черногорию и часть Приморья,
Косово, Метохию, часть Македонии, Далмации и Словении, царской Болгарии
досталась часть Македонии и юго-восточной Сербии, хортистская Венгрия
заполучила Бачку, Баранью, Междумурье и Прекомурье. Часть Словении, граничащую
с бывшей Австрией, присоединил к рейху.
Раздел
Югославии между Германией, Италией и их союзниками в 1941 году
|
|
Для разжигания национальной вражды между
югославскими народами к образованному «Независимому государству Хорватии» были
присоединены не только хорватские земли, но и земли Боснии, Герцеговины и
Срема. Управление «независимым государством» было доверено «усташам» —
хорватским фашистам. Сербия была жестоко придавлена военным оккупационным сапогом.
Но этого Гитлеру показалось мало, и
лучшие земли северо-востока Сербии, земли между Дунаем, Тиссой и Румынией — так
называемый сербский Банат — сказочно плодородные, он приказал официально
превратить в германский «Донауланд». В нашем крае цвел настоящий инжир и зрел
сочный виноград, из которого выделывались лучшие сорта вин, рабочую силу
привозить не нужно, она под рукой: в качестве дармового рабочего тягла можно
использовать покоренных сербов. Опереться же Гитлер решил на фольксдойче, они,
к сожалению, в большинстве своем поддались разнузданной геббельсовской
пропаганде и стали главной опорой оккупантов на нашей земле. Немцев же в нашем
Банате, как я уже говорил, было не мало. В районах попадались деревни почти
сплошь немецкие, во всех городах имелись немецкие колонии. В Банате до войны
проживало около 600 тысяч жителей, из них немногим более 300 тысяч сербов, 120
тысяч немцев, 100 тысяч венгров и 60 тысяч румын. Из 40 тысяч жителей нашего
города Вршаца 14 тысяч было немцев, живших здесь еще со времен императрицы
Марии Терезии. В первый же день оккупации повсюду в городе были вывешены
объявления на немецком, венгерском и сербском языках:
«Жители города Вршаца!
От имени немецкого народа, под защитой
Адольфа Гитлера и немецких вооруженных сил, немцы берут в свои руки
управление... Требуем от граждан полного повиновения... За неповиновение —
расстрел... До двенадцати часов дня сдать все оружие... Кто после двенадцати
часов будет схвачен с оружием — расстрел...»
Началось водворение «нового порядка». На
всех углах громкоговорители, в газетах печаталась безудержная ложь, глашатаи из
специальной службы под барабанную дробь выкрикивали приказы, сообщения,
правила, нормы, условия, как нужно вести себя и жить при «новом порядке». Все
было предельно ясно: германская раса — высшая раса, раса господ, она достигла
высшей ступени цивилизации, она умеет работать и знает, что такое дисциплина,
немцы чистоплотны, аккуратны и бережливы. Все остальные, в том числе
сербы — низшая славянская раса. Они не умеют работать, недисциплинированы,
ничего не достигли в своей истории, пьянствуют и опускаются все ниже, их удел —
самая тяжелая, не требующая специальных навыков работа. Всем ходом истории и
господом богом предопределено, чтобы высшая раса управляла низшей.
Не обходилось и без курьезов. Боже ты
мой, как они любили маршировать! Хлебом не корми, дай только походить строем
под барабанную дробь. Сначала маршировали только германские роты. По трое в
шеренге, повзводно, с утра до вечера, через весь город, вдоль и поперек. Людей
уже мутить начинало от этих маршей, от их слезливой «Лили Марлен» — без этой
песенки строевой марш не обходился. Но они все маршировали, маршировали и
заразили своим пристрастием всех фольксдойче. И вот уже маршируют полицаи,
жандармы, культурбунд, школьники, чиновники магистрата, гитлерюгенд, пожарники,
дошкольники. И все по трое в шеренге, повзводно, под звуки барабанного боя.
Посмотрев на них со стороны, можно было подумать, что эти люди просто
разучились нормально ходить.
Можно бы и не обращать внимания на это
фиглярство, маршируют и пусть себе маршируют на здоровье. Но этому пристрастию
к маршировке было свое объяснение — оно должно было приучить сербов к
послушанию: не путайтесь под ногами, когда ариец идет. Во всем должен быть
порядок! И вот уже сербам приказ не собираться больше трех человек. И уж, само
собой разумеется, все излишки продуктов сдавать: столько-то яиц, столько-то
мяса, шерсти, молока, в общем, все расписано. И здесь же приказ о расстреле
цыган и душевнобольных, строгое предписание евреям ходить только по проезжей
части улицы и только со своими знаками на спине и на груди. Сербам же строго
запрещалось держать собак, иметь в своем распоряжении приемники и велосипеды. И
вновь за неповиновение всем было уготовано одно — расстрел.
Следить за исполнением всех этих приказов
помогали фольксдойче. Из них была даже создана дивизия СС «принц Эуген»,
которая вскоре стала основной карательной силой на Балканах. В обмен рейх
прислал гестаповцев во главе с исчадием рода человеческого, Шпиллером,
оставившим глубокий кровавый след в городах и селах сербского Баната (Шпиллер
- начальник гитлеровской полиции Донауланда, полковник СС, враг
комммунистического и народно-освободительного движения Югославии. Хорват по
национальности, доктор юридических наук по образованию, патологически
ненавидевший прогресс и социализм, до войны одновременно служил монархии и
великосербской буржуазии, как руководитель тайной полиции, охотясь за
коммунистами и сотрудничая с гестапо и «пятой колонной». Во время оккупации в
1941 году оказался на должности шефа фашистской полиции. Благодаря его
полицейским способностям были нанесены тяжелые удары по
народно-освободительному движению. Как показал на допросах после войны сам Шпиллер,
у него и его палачей было разработано более 60 методов пыток. Наряду с этим он
пользовался услугами провокаторов и предателей, которых забрасывал в ряды
подпольщиков и партизан. В течение войны он провел 120 наступлений на не сдающееся
партизанское подполье, которое было отрезано от остального народно-освободительного
движения почти до конца войны. – примеч. авт.).
В такой обстановке прошли два с половиной
месяца. Гитлер готовился к нападению на Советский Союз, и ему было не до
коммунистов Сербии, Воеводины, Черногории. Нас пока не трогали. Но оккупанты
уже готовили удар, и не только по коммунистам, а по всей прогрессивно настроенной
части сербского населения. Подполье чувствовало надвигающуюся опасность и по
мере своих сил и возможностей, не теряя времени, тоже готовилось к схватке.
Где-то в середине мая сорок первого года в старой, заброшенной пекарне Стефановичей
было проведено боевое совещание комсомольцев. Собралось нас человек двадцать
пять. Совещанием руководили Елена и Мила. Внезапно появился Сава. Он коротко
выступил перед нами, объяснил, в чем сущность изменившейся ситуации, связанной
с оккупацией страны, сделал предположение о возможном нападении немцев в
ближайшее время на Советский Союз и особенно остановился на нашей борьбе и ее
специфике в условиях оккупации. Нам необходимо усилить дисциплину и конспирацию,
и от того, как мы сумеем это сделать, будет зависеть дальнейшая судьба нашего
движения. Сава высказал свои соображения и исчез.
По организационным вопросам выступала
Мила. Мы были разбиты на тройки. Все понимали, что нужно оружие, и потому Мила
посоветовала, чтобы мы собирали оружие, разбросанное еще в апрельской войне, и
чтобы расширяли связи с неорганизованной молодежью, вовлекая как можно больше
людей в борьбу с оккупантами. Еще и еще раз Мила напомнила о четкости в работе,
о строгой конспирации, без чего нельзя и думать об успехе в борьбе с коварным и
жестоким врагом.
Со мной в тройке были Стева по кличке
Худой и Йова по кличке Маленький. Стева работал на железной дороге, а Йова — на
маслобойне. Неорганизованных ребят мы собирали под видом участия в уличных
футбольных турнирах на пустырях, выведывали у них сведения о местах, где
разбросаны боеприпасы, пулеметные ленты, оружие. Мальчишки ведь могли
проникнуть туда, куда взрослым проход был закрыт. Но особенно похвастаться пока
было нечем. Мы исправно делали свое дело, и о том малом, что узнавали,
находили, я регулярно докладывал Миле. В конце мая меня вызвал и себе Деян.
После обычных расспросов о житейских делах он как бы между прочим сказал:
— Послушай, мне с тобой посоветоваться
нужно вот о чем. Я знаю, своих дел и хлопот у тебя хватает, но, как тебе
известно, людей у нас мало, и мы хотим предложить тебе дополнительное, очень
ответственное задание — быть связным. Дело, повторяю, очень ответственное. При
фашистах осторожность нужно удесятерить, ведь ты теперь рискуешь не только
своей жизнью, но ставишь под удар и жизнь товарищей. Провал должен быть
исключен.Но об этом потом. Как ты на наше предложение смотришь?
— А чего смотреть-то? Если нужно, буду
работать... — Мне тогда казалось, что старшие все усложняют длинными
рассуждениями, ненужными сомнениями, дополнительным обдумыванием ясных
вопросов. Взять хотя бы это задание. Спрашивается, что здесь обсуждать? Задание
ясно, нужно налаживать связь. Что зря
переливать из пустого в порожнее? И он и я это знаем, но и сказать так нельзя,
еще обидится, хотя мы и родня. Посмотрел я на него, вижу — смотрит серьезно,
только усы чуть вздернулись от улыбки.
Я тоже улыбнулся. Вспомнился давешний
разговор с Деяном. Мне раньше почему-то казалось, что Деян на меня смотрит
снисходительно-иронически, даже как-то лукаво. И я не утерпел, спросил его,
почему он, старший товарищ, смотрит на меня с насмешкой. Мне же обидно. Деян
сразу посерьезнел и успокоил меня:
— Ну что ты, что ты... Нормально я на
тебя смотрю. А если честно, я просто все удивляюсь, какой ты еще маленький!
У меня от души отлегло. Подумаешь,
маленький! Это дело поправимое, подрасти я всегда успею. Хорошо Деяну так
рассуждать, ему в свои двадцать семь удалось уже многое сделать, узнать,
пережить. Он был известным юристом в городе, умело защищал бедняков, руководил
культурно-просветительным обществом рабочих города. Он прекрасно знал
румынский, немецкий, французский, латынь и даже самостоятельно осилил русский
язык. Мало того, он выучился еще на парикмахера и шофера, а во время учебы в
университете был одним из руководителей прогрессивного студенческого движения и
не раз участвовал в отчаянных схватках с белградской полицией. Увлекался Деян и
литературой, поэзией, с удовольствием читал нам стихи. Много знал он стихотворений
наизусть и сам понемногу писал. Когда в 1939 году вышли его первые рассказы, мы
все очень гордились и с интересом перечитывали их. Вообще он был человеком,
несомненно, талантливым, и я не переставал ему удивляться. Деян помимо прочих
своих достоинств был очень музыкален: он играл на скрипке, мандолине,
аккордеоне, гайдах и на гуслях. Мы любили слушать, как он поет. Деян
аккомпанировал сам себе на мандолине и пел наши народные песни, а также
русские, популярные итальянские.
В 1937 году Деяна арестовали за
коммунистическую деятельность, зверски избивали, пытали. Боясь не выдержать
пыток, Деян в камере шнурком перерезал себе вены. Его нашли совершенно
случайно, в самую последнюю минуту, когда жизнь едва теплилась в нем. Врачи
спасли его. Крови он потерял много, долго болел и впоследствии часто
покашливал. Но, выйдя из тюрьмы, он снова активно включился в движение и стал
одним из верных помощников Учи.
ВОЙНА
Девятнадцатого июня 1941 года я как связной получил важное задание. Секретарь подпольного райкома партии
Деян поручил мне обойти явки в деревнях Избиште, Ульма, Загаица и передать
директиву райкома, что двадцать второго июня Германия нападет на Советский Союз
и одновременно всеми силами обрушится на нас, чтобы покончить с коммунистами
раз и навсегда. Поэтому руководство предлагало всем товарищам, известным
полиции по левым взглядам, уйти в глубокое подполье и действовать оттуда по
согласованным планам, разработанным заранее на этот случай. Я несколько раз
повторил приказ, пока Деян не убедился, что я все запомнил правильно, и только
тогда он отпустил меня.
Задание показалось мне несложным, и
выполнил я его легко. Пешком дошел только до села Избиште, где нашел нужного
товарища Нису и
передал ему приказ руководства слово в слово, как велел Деян. Из Избиште в Ульму
и Загаицу товарищи переправляли меня на бричках, как говорится, с «комфортом».
В Загаице меня встретил старый знакомый — Жица, я и ему передал директиву Деяна
дословно. Мне было приятно видеть, как взрослые товарищи внимательно слушают
меня, для них я был не просто мальчишка, а связной, посланец центра. Да и
директива была слишком важна, ведь речь шла о жизни и смерти людей, и товарищам
было над чем задуматься.
|
Ниса – Станислав Ивков, крестьянин, коммунист-подпольщик, соратник Учи. Погиб 23 июля 1943
года, попав в засаду |
Выполнив задание, я, чтобы не
вызывать подозрения, из Избиште в город возвращался пешком по пыльной колее
деревенской дороги, рассуждая сам с собой. Было это жарким днем двадцать
первого июня сорок первого года. «Если немцы действительно нападут на Советский
Союз, — думал я, — тут-то им и будет крышка. Красная Армия врежет гадам по
первое число, и побегут фрицы туда, откуда пришли. Уже совсем скоро, преследуя
фашистов, Красная Армия будет здесь...» И я даже остановился, пораженный. Здесь
будет Красная Армия! И мы наконец-то встретимся с большевиками! Я хотел
представить себе это и не мог: такая возможность казалась мне тогда
фантастикой.
Двадцать второго июня гестапо
ровно в четыре утра сделало налеты на все дома в Вршаце, которые были на
заметке у полиции как неблагонадежные. Хватали всех без разбора, опасаясь,
очевидно, кого-то из активистов оставить на свободе. Ничего страшного не
произойдет, если невиновный посидит в тюрьме, рассуждали нацисты, смотришь — в
процессе допроса кое-что и у него удастся выудить. В одном Банате за эту ночь
арестовали более 400 человек. По стране также проходили аресты, тюрьмы
заполнялись коммунистами и теми, кто не смирился с оккупантами и стал на путь
борьбы.
К нам в дом гестапо тоже
пожаловало. Ровно в четыре утра нас разбудил громкий стук в дверь. Семья у нас
раньше была большая, дружная — тринадцать человек.
Восемь человек: отец, мать,
дяди, тетя — заблаговременно ушли кто в подполье, кто в горы Сербии и Черногории.
Дома остались малые да старые: дедушка, бабушка, больная тетя Вера да мы с
братом.
Мы не успели даже встать с
постели, когда гестаповцы ворвались в дом. Они выволокли всех во двор и
поставили лицом к стенке, с поднятыми руками. Гестаповцев было много: двое в
штатском с пистолетами в руках и десяток солдат с винтовками на изготовку.
Начался допрос. Отвечала бабушка. И в тяжелую минуту она не сложила с себя
полномочий главы семьи, отвечала на вопросы гестаповцев за всех нас:
— Где сыновья?
— Уехали
— Где
зятья?
— Уехали...
— Где дочь?
— Уехала...
Командовал арестом гестаповец
в штатском. У него в руках листок, очевидно, список, и он по списку зачитывал
имена всех наших. Видимо, кто-то уже донес.
— Уехали? Куда уехали?
— В Сербию, Черногорию,
работы у нас нету, ищут ее в других местах.
— Когда уехали? — злится
немец. Бабушка не моргнув глазом отвечает:
— Да кто с неделю назад, кто
с месяц, а вот старшая дочь всего три дня как в Венгрию поехала хлопотать по
пенсионному делу...
И начала бабушка возмущаться,
что это ни свет ни заря нас подняли, выгнали во двор...
— Ах зо! Сербише швайне! Обыскать!
И обыск начался. Я пережил
несколько обысков в довоенной Югославии, и меня всегда поражала малограмотность
наших жандармов и полицейских, их пренебрежение и книгам, рукописям, неуважение
к человеческому достоинству. Но то, что теперь происходило перед моими глазами,
превзошло все мои ожидания. Гестаповец даже не обыскивал, а с наслаждением все
уничтожал. Кровать перевернул, книжную полку сбросил на пол, так что она затрещала,
перину пырнул штыком, и из нее полетел пух, из курятника выгнали кур с насеста.
И среди этого гвалта гестаповец вдруг наскакивает па бабушку и спрашивает:
— А яйца ты сдаешь в магистратуру? Где
квитанция? И поволок бабушку в дом, чтобы она ему показала квитанцию с отметкой
магистрата о сданных яичках. Я стоял, смотрел во все глаза и ничего не понимал.
Ну при чем тут яйца, когда он врагов своих ищет? Какая-то смесь «подлинной
арийской» дисциплины с «подлинным арийским» варварством и тупостью. Закончив разгром
дома, и так ничего и не добившись от бабушки, нас уволокли на сборное место в
здание бывшего суда. Часа через четыре меня и брата как малолетних отпустили, а
бабушку, дедушку и тетю задержали в качестве заложников. Бабушку и дедушку
потом несколько раз то отпускали, то опять забирали.
Утром, по-моему, двадцать четвертого июня
я вышел с ведром за питьевой водой к артезианской скважине, метрах в
восьмидесяти от нашего дома. Подхожу, вижу — у колодца Ниса переминается с ноги
на ногу. Увидев меня, нагнулся к воде, делает вид, что пьет, а сам говорит
потихоньку:
— Хорошо, что вышел... Я не рискнул
зайти, есть разговор. Отец Чеда привет передает. Не знает обстановку,
спрашивает, можно ли зайти?
Я, услышав про отца, чуть ведро не
уронил.
— Что?! Позавчера обыск был, отца ищут!..
Как его повидать?
— Я на телеге, оставил ее у малой церкви,
поедем?
— Нет, ты выезжай из города один, а я к
тебе подсяду у виноградников.
Вернулся домой и пожалел, что брат
куда-то ушел, а то бы вместе пошли на встречу с отцом. Перемахнул через заднюю
стенку двора в соседские сады, вышел на другую улицу и побежал к виноградникам.
Часа через два я встретился с отцом в деревне Влайковац. Обрадовались мы друг
другу!.. Он мало изменился, был все такой же худой, высокий, серьезный. Отец расспросил
меня о последних событиях, и я подробно ему обо всем доложил, сказал и о том,
что его ищет гестапо и в город ему идти нельзя. Отец все переспрашивал о
матери, что да как она. Я успокоил его:
— Все в порядке. Мамы нет дома, она тоже
в подполье, очень довольна была, что тебя нет в городе, думала, ты в Западной
Сербии. А ты оказался здесь, вот бы она разволновалась, если бы узнала!
Отец подумал, подумал и говорит:
— Передай матери, если увидишь, я
пробьюсь назад, в Западную Сербию, на наш хутор Малый Бошняк. Так будет лучше.
И Слободану передай, что я его жду в Малом Бошняке. Обязательно скажи, чтобы
перебирался. Ему скоро семнадцать, фашисты и его в заложники могут забрать.
Я стал убеждать отца, что войну мы скоро
выиграем вместе с Красной Армией. Отец вздохнул:
— Конечно, было бы хорошо, но мировая
война, коль уж началась, не скоро окончится. Надо готовиться к худшему и быть
очень осторожным.
Поговорили мы еще с отцом о наших делах,
обнялись и расстались. Я пошел в город, домой. По дороге думал о многом, но
только одна мысль мне в голову не приходила — что видел я отца в последний
раз...
Нападение фашистских оккупантов на
Советский Союз и одновременное наступление на все прогрессивные, левые и
коммунистические силы в Сербии, Воеводине, Черногории, Словении, Македонии,
Боснии, Герцеговине и Хорватии началось. С этого же времени началась и освободительная борьба народов Югославии с
ненавистными завоевателями, борьба изнурительная и долгая.
Правда, к лету 1941 года в Хорватии,
Боснии, Герцеговине сложилась несколько иная обстановка, отличная от той, что
была в остальной части страны. Как я уже говорил, Гитлер начал разжигать
национальную рознь между нашими народами; с этой целью было образовано так
называемое «Независимое государство Хорватия», охватывающее не только Хорватию,
часть Далмации, но и Боснию, Герцеговину, область Воеводины — Срем в
большинстве своем с сербским населением. «Независимым» государством правили
усташи — хорватские и мусульманские фашисты.
В мае — июне 1941 года усташи с ведома и
согласия гестапо начали поголовное уничтожение сербского населения. Такого
Европа не знала со времен монгольских и османских завоевателей. В сербских
деревнях, городах истреблялось все живое, людей расстреливали, сбрасывали с
обрывов и мостов, не щадя детей и стариков. В страшном усташском концлагере
Ясеновац на реке Саве за неполных четыре года было уничтожено по официальным
данным до 700 тысяч человек, в большинстве своем сербов. В этом же лагере были
уничтожены и тысячи наших братьев, хорватских коммунистов, тысячи лучших
представителей хорватской интеллигенции, восставших, как и мы, против
фашистской тирании.
Мира в «независимом государстве» не было
и быть не могло, народ поднимался на борьбу с оружием в руках, чтобы защитить
своих детей, жен, матерей.
В Сербии в это время появились четники,
сербские националистические элементы, так называемое «войско королевского
правительства». На геноцид усташей они ответили резней, истребляя хорватское
население. Эта кровавая вражда была только на руку немцам. Они натравливали
наши народы друг на друга, старались укоренить на столетия жестокую
национальную ненависть.
Помогали немцам властвовать не только
усташи, но и предательская политика самой массовой мелкобуржуазной партии
Хорватии — ХСС, имевшей перед войной широкое влияние на население. Поучительно
проследить, как эта либеральная партия, боровшаяся ранее за хорватскую
независимость, национальное равноправие и социальную справедливость, уже к
концу тридцатых годов стала реакционной, перешла к политике предательства национальных
интересов. Верхом ее предательства был призыв весной сорок первого года
поддержать усташского главаря Павелича, отблагодарить немцев за дарованную
хорватам «независимость», жить в любви и мире с «могущественным рейхом».
И только хорватские коммунисты, защищая
идеи братства, равноправия и свободы народов, выступили против фашистского
геноцида в «независимом государстве». И в этой борьбе они стояли насмерть.
Раненный в бою, попал в лапы фашистов рабочий Раде Кончар, секретарь ЦК
Компартии Хорватии. Выдержав изуверские пытки, Раде Кончар и его товарищи перед
расстрелом отказались от повязок и, смотря в дула винтовок, восклицали: «Да
здравствует Красная Армия! Долой фашизм! Долой предателей!» И так вели себя
коммунисты везде. В Сербии на казнь легендарного командира Колубарского
партизанского отряда Стевана Филиповича фашисты согнали огромную толпу.
Воспользовавшись замешательством палачей, с петлей на шее Стеван бросал в толпу
пламенные слова: «Долой Гитлера! Смерть фашизму! Свобода народу!» Сохранившиеся
документы о казнях народных героев Раде Кончара и Стевана Филиповича — это
потрясающие свидетельства величия человеческого духа. Таких примеров было
много. Титаническая, ни на день не затихавшая борьба партизанских соединений и
отрядов в горах Югославии, блестящие победы Красной Армии под Москвой,
Сталинградом и Курском привели к тому, что одурманенные фашистской пропагандой
массы по-иному стали смотреть и на «всемогущий» рейх», и на дарованную
«независимость», и на злодеяния палачей-усташей. Прекрасный и справедливый
боевой лозунг коммунистов и всего народно-освободительного движения Югославии о
братстве и единстве народов побеждал. Фашистский геноцид усташей и
предательство сербских националистов-четников были сурово осуждены народом,
народно-освободительное движение в стране набирало силы.
Но это было позже, а сейчас, 22 июня 1941
года, война только начиналась. В Белграде подпольный ЦК КПЮ принял решение о
восстании на всей территории Югославии. Объективный анализ расстановки сил и
вероятного развития событий показывал, что Сербия, Черногория, Босния,
Герцеговина, Словения, некоторые районы Хорватии созрели для восстания. Вопрос
стоял не о целесообразности начала восстания, а о том, как лучше
скоординировать силы коммунистов и народа, как распространить восстание на
районы, где население было еще не готово к нему. Анализ обстановки показывал,
что потребуется много времени и умения, чтобы объединить в широкий фронт все
потенциальные силы народа, всех желающих бороться против фашизма, за свободу и
независимость своей страны, и тем самым помочь Советскому Союзу в его нелегкой
схватке с жестоким и сильным врагом. Работа предстояла трудная. Сербская
буржуазия не была готова к борьбе. Часть ее предала интересы народа, перешла на
сторону гитлеровцев, считая, что нет ничего зазорного в сотрудничестве с таким
«высокоцивилизованным» оккупантом. Лидером сербских предателей стал генерал
Недич. Те, кто был настроен проанглийски, ориентировались на короля и
эмигрантское правительство, находившихся в Лондоне, и заняли выжидательную
позицию. В горах Сербии, Боснии, Герцеговины и Черногории они организовывали
отряды четников, которые не воевали против оккупантов, но и не подчинялись им,
ожидая сигнала из Лондона. Знакомая позиция: пусть другие (русские и
коммунисты) обескровят себя и фашистов, мы вступим в борьбу в конце, чтобы
диктовать условия.
В эти тяжелые дни с народом оставалась
только одна партия, готовая к борьбе с оккупантами, — Коммунистическая партия
Югославии. И она повела за собой народ.
В начале июля в деревнях, в городах, в
горах люди тайком слушали радио из Москвы. Эти передачи звучали как набат,
призывали к созданию партизанских отрядов, диверсионных групп — словом, к такой
борьбе, чтобы у немецких захватчиков буквально земля горела под ногами. Радио
Москвы выражало уверенность, что советский народ не будет в этой священной
войне одинок, что он приобретет верных союзников в лице порабощенных народов
Европы. Не знаю, как в других оккупированных странах, но мы в Югославии эту
уверенность разделяли, мы знали точно, что фашистская Германия — наш общий враг
и мы будем сражаться с ним в одном строю с СССР.
Наш народ, коммунисты прекрасно понимали,
что немец силен. На наших глазах рухнули Чехословакия, Польша, Бельгия,
Норвегия, Дания, Голландия, Франция, и у всех еще была свежа в памяти наша
военная катастрофа. На Германию работала, как тогда говорили, вся Европа. Но 22
июня фашисты напали на Страну Советов, и это в корне меняло дело.
Мы верили в силу социалистического
государства, верили, что только оно способно сломать хребет громадному
фашистскому зверю. И чем скорее это произойдет, думали мы, тем лучше.
Мы понимали, что для приближения победы
Советской России нужно помочь. Не сидеть же сложа руки и ждать, пока свобода
будет нашему народу подарена! Силен был у восставших дух интернационализма,
вера в помощь людей труда друг другу в трудную минуту. Это был пролетарский
интернационализм на деле.
Кроме того, мы считали, что после первых
сильных ударов Красной Армии поднимется на борьбу с фашизмом немецкий
пролетариат в Германии, а также рабочий класс всей
порабощенной Европы, и это тоже будет помощь, и немалая.
И, наконец, коммунисты
Югославии верили в свободолюбивые традиции своего народа, верили, что наш народ
не предаст, не струсит в трудную минуту, а поведет борьбу с ненавистным
фашизмом. Коммунисты не были болтунами, они на деле доказали свою ненависть к
оккупантам, сотни и тысячи лучших из них были расстреляны, сидели в тюрьмах и
лагерях, оставшиеся на свободе боролись с оружием в руках в партизанских
отрядах, в подполье и честно звали народ на трудный бой за свободу и
независимость, за ту самую свободу, ради которой наши отцы, деды и прадеды не
щадили живота своего.
Те, кто действительно
участвовал в восстании летом 1941 года в Сербии, Воеводине, Черногории, Боснии,
Далмации, Словении, Македонии, хорошо знают, что коммунистам помогла в этом
вера в Советский Союз, в силы Красной Армии, в свой народ, в международную
солидарность коммунистов и всего прогрессивного человечества; без этой
несокрушимой веры трудно было и думать об успехе в борьбе с таким коварным и
жестоким врагом. Но, что греха таить, были и такие, кого пугала мощь фашизма,
они предлагали повременить с восстанием, доказывали себе и другим, что еще не
время браться за оружие.
В августе 1941 года в Посавско-Тамнавском
партизанском отряде сложили песенку, которую
пели потом и у нас в Банате. Пели песню на народный мотив, а слова были такие:
|
Пошо Хитлер на Руса. Па се биjе у прса Потучићу руског баjу Као српску раjу! Слуша Сталин Хитлера, Полуделог молера,* Па се смеје у по брка Швабо биће трка |
* Гитлер Сталину грозил, В грудь себя с азартом бил «Войско русское в бою Я в два счета разобью!» Сталин Гитлеру сказал «Рано, фюрер, нос задрал Скоро кончишь похвальбу, Видел я тебя в гробу» |
Слово «Сталин» ребята иногда меняли на
слово «руя» — «русский». Под этими словами народ подразумевал всю огромную
Советскую страну. Этой песней наш народ выражал свою безграничную любовь к
советскому народу и веру в его грядущую победу. Не учитывая этого, нельзя понять
ни сорок первый год, ни последующие события.
Чтобы лучше передать атмосферу тех
июльских дней сорок первого года и наши настроения, приведу текст исторического
воззвания ЦК Компартии Югославии в связи с нападением фашистской Германии на
Советский Союз. Даже с позиций восьмидесятых годов этот документ очень интересен.
Вот он почти полностью:
РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ
И ГРАЖДАНЕ ЮГОСЛАВИИ!
Рано утром 22
июня распоясавшиеся фашистские бандиты напали на великое и миролюбивое
государство рабочих и крестьян, на Советский Союз. Эти профессиональные
преступники точно так же подло подкрались к цветущим городам Советского Союза,
как десять недель тому назад к Белграду, чтобы засыпать их своими смертоносными
снарядами. Это новое неслыханное преступление фашистских убийц наполнило
страшным гневом не только сердца двухсотмиллионного народа страны социализма,
но и сердца людей труда во всем мире.
Проливая
потоки крови, окутав в черное всю Европу и поработив ее народы, немецкая
фашистско-капиталистическая банда во главе с безумцем Гитлером погнала свои
обагренные невинной кровью орды в цветущий советский сад, чтобы разорить все
то, что в течение двадцати трех лет ценой нечеловеческих усилий построили
народы Советского Союза. Но на этот раз кровожадные фашистские преступники и их
сатрапы в остальных капиталистических странах жестоко просчитались. Им сейчас
противостоят не слабые европейские государства, руководимые предательскими
капиталистическими кликами, разложившиеся изнутри, лишенные единства и
ослабленные предательской работой «пятой колонны», а монолитный
двухсотмиллионный народ Советского Союза, сплоченный вокруг героической партии
большевиков и мудрого вождя товарища Сталина. Им противостоит непобедимая
Красная Армия, грозная сила, как гранитная стена стоящая на страже социалистического
отечества. Им противостоят трудящиеся и национально угнетенные массы всего
мира. Это сегодня та сила, которая не только выбьет зубы кровожадному
фашистскому зверю, но и полностью уничтожит эту заразу, которая хочет своим
смрадом и чумой отравить весь мир.
РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ И ГРАЖДАНЕ!
Твердо верьте
в то, что Советский Союз со своей героической Красной Армией является такой
силой, которую никто в мире не в состоянии одолеть. Верьте, что на стороне
Советского Союза в его справедливой борьбе будут не только симпатии, но и
поддержка миллионов трудящихся масс всего мира. Героические народы Советского
Союза ведут свой последний бой, дабы раз и навсегда не только защитить великую
социалистическую родину от фашистско-капиталистических драконов, но и спасти
все многострадальное человечество от возврата к средневековому мраку и рабству.
РАБОЧИЕ И РАБОТНИЦЫ!
Пробил
решающий час. Начался решительный бой против злейших врагов рабочего класса,
бой, который фашистские преступники сами навязали вероломным нападением на
Советский Союз — надежду всех трудящихся мира. Драгоценная кровь героического
советского народа проливается не только во имя защиты страны социализма, но и
во имя окончательного социального и национального освобождения всего трудового
человечества. Поэтому это также и наша борьба, которую мы должны поддерживать
всеми силами вплоть до наших жизней.
Пролетарии
всех югославских земель — на свои места, в первые боевые ряды. Тесно сплотитесь
вокруг вашего авангарда — Коммунистической партии Югославии. Каждый на свое
место. Непоколебимо и дисциплинированно выполняйте свой пролетарский долг.
Немедленно готовьтесь к последнему и решительному бою. Не допускайте того,
чтобы из-за вашего неучастия в борьбе проливалась драгоценная кровь героических
советских народов. Вашими лозунгами должны быть призывы: ни один рабочий, ни
одна работница не должны быть отправлены в фашистскую Германию, чтобы своим
трудом увеличивать силы фашистских бандитов. Ни одна пушка, ни одна винтовка,
ни один патрон, ни одно зерно хлеба не должны при вашей помощи попасть в руки
фашистских преступников. Мобилизуйте все свои силы на борьбу против того, чтобы
наша страна была превращена в базу для снабжения фашистских орд, набросившихся,
словно бешеные псы, на Советский Союз, на дорогую нам социалистическую родину,
на нашу надежду, на маяк, к которому с надеждой обращены взоры страдающих
трудящихся всего мира.
Рабочие
железных дорог и других транспортных средств, вы не имеете права быть тем
каналом, по которому потечет смертоносное оружие и другие средства ведения
войны, предназначенные против Советского Союза и против вас самих. Вспомните
наши боевые традиции из времен минувшей капиталистической интервенции против
молодой Советской Республики. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы помешать
фашистским преступникам использовать вас не только против Советского Союза, но
и против трудящихся нашей страны и всего мира. Мы призываем вас в эти решающие
часы исполнить свой долг, который возложен на вас в этом решительном бою...
МОЛОДЕЖЬ ЮГОСЛАВИИ!
Идет последний
бой с твоим заклятым врагом, с фашистскими преступниками, против которых ты
всегда готова была бороться по призыву компартии.
Против этих
твоих кровных врагов молодое поколение Советского Союза уже ведет тяжелый,
кровавый бой. Льется драгоценная кровь советской молодежи, завоевавшей уже все
то, о чем ты, молодежь Югославии, только мечтала. Советская молодежь с песнями
строила социализм, а сейчас проливает кровь и за твое счастье, за твое будущее.
Можешь ли ты,
молодежь, остаться в стороне? Нет, не можешь! Ты обязана быть в первых рядах
борьбы против фашистских бандитов...
ХОРВАТСКИЙ НАРОД: РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ
СОЛДАТЫ И ВСЯ ЧЕСТНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ!
Слуга
фашистских завоевателей — Павелич хочет использовать хорватский народ в борьбе
против Советского Союза и против освободительной борьбы наших народов. Разве
этот, весь в крови невинных людей, преступник не опозорил уже хорватский народ?
Разве ты позволишь, чтобы еще одно, самое страшное предательство было покрыто
твоим хорватским именем? Разве хорватские богачи в прошлом не опозорили уже
свои народ? Нет! Сейчас, когда твоя истинная свобода так близка, ты, хорватский
народ, не допустишь такого предательства!..
СЕРБЫ, СЛОВЕНЦЫ, ЧЕРНОГОРЦЫ, МАКЕДОНЦЫ, ОСТАЛЬНЫЕ ПОРАБОЩЕННЫЕ
НАРОДЫ ЮГОСЛАВИИ!
Вы, которые
стонете под сапогом оккупантов, все, кому дороги свобода и независимость, все, кто против фашистского рабства, знайте,
что пробил час вашего скорого освобождения. Внесите вашу лепту в борьбу за
свободу под руководством Компартии Югославии. Борьба Советского Союза — это и
ваша борьба, ибо он борется против вашего врага, под чьим ярмом вы стонете. Не
поддавайтесь обману домашних реакционеров, которые служат фашистским
бандитам...
КОММУНИСТЫ ЮГОСЛАВИИ!
Наступил тот
самый тяжелейший час, который мы в нашей борьбе предвидели. Мы знали, что
готовят фашистские преступники против СССР и всего трудящегося человечества.
Кровожадные фашистские правители, которые держат в рабстве свои народы и народы
порабощенных стран, объявили нам войну на истребление, объявили по радио
уничтожение коммунистов железом и кровью. Мы принимаем этот бой, ибо мы ожидали
его и мы к нему готовились. В этой борьбе не будет пощады ни одному коммунисту,
вопят фашистские палачи, а мы заявляем: в этой борьбе не будет пощады
преступным фашистским главарям и их верным слугам, в этой борьбе не будет
пощады фашистской финансовой олигархии и ее сатрапам.
Коммунисты
Югославии! Не колеблясь ни минуты, немедленно готовьтесь к тяжелой борьбе. Не
теряя времени, приспособьте свои организации и их деятельность к этому
последнему бою. Примите все меры к тому, чтобы как можно лучше сохранить наши
драгоценные кадры, которые нам сегодня в этой борьбе нужны как никогда ранее.
Организуйте трудящиеся массы и передавайте им свой опыт, приобретенный с таким
трудом. Встаньте во главе трудящихся и национально угнетенных масс и руководите
ими в борьбе против поработителей наших народов. Пусть царит среди вас отвага,
дисциплина и хладнокровие, ибо и этим вы обязаны показать пример другим.
Выполните свой
долг авангарда рабочего класса Югославия. Вперед, в последний и решительный бой
за свободу и счастье человечества!
Да здравствует
великая и непобедимая страна социализма — Советский Союз!
Да здравствует
героическая партия большевиков — ВКП(б)!
Да здравствует
вождь и организатор прошлых и будущих побед великого и мощного Советского Союза
— товарищ Сталин!
Да здравствует
Коммунистический Интернационал!
Да здравствует
Коммунистическая партия Югославии!
Да здравствует
международная солидарность всех угнетенных и эксплуатируемых!
Да здравствует
единство и борьба трудящихся масс Югославии!
Долой
империалистических фашистских преступников во главе с кровавым Гитлером,
Муссолини и остальными сатрапами!
Центральный Комитет Коммунистической партии Югославии
Так думал наш Центральный Комитет. Так
думали все коммунисты и все честные люди в стране. Да, воззвание ЦК доходило до
народа не сразу. Его надо было в тяжелейших условиях подполья напечатать,
распространить. Я его читал только в конце августа. Но воззвание как нельзя
лучше отражало мысли и чаяния нашего народа, совпадало со стремлениями народа и
коммунистов. Оно звало в бой, оно вселяло уверенность в конечной победе над
силами зла и мракобесия.
Коммунисты Югославии были стойкими
бойцами за свободу и независимость своей страны, а не стадом баранов, покорно
следующих за предателями народа и сдающихся фашистам на милость победителей.
Они не намерены были безропотно терпеть издевательства, подставлять под пули
свои головы и следовать в концлагеря. Коммунисты были островками в народном
море, вокруг которых сплачивались все, кто желал с оружием в руках сражаться с
оккупантами. И очень скоро немцы убедились, что коммунисты — это сила и их не
так-то просто всех арестовать и тем более пустить под нож. Коммунисты после 22
июня, еще до воззвания, большей частью ушли в леса, горы, в подполье. И
поступили очень мудро.
Они начали усиленную подготовку к
вооруженному восстанию, и результаты не заставили себя ждать. В течение июля
уже полыхали пламенем восстания многие районы Югославии, особенно в Сербии,
Черногории, Герцеговине и Боснии. ЦК КПЮ принимал необходимые меры по
организации и распространению восстания.
Вот что говорилось в одном из документов
ЦК КПЮ от 24 июля 1941 года:
«1. В связи с нападением
фашистских банд на Советский Союз вся наша партия, включая и ваших товарищей,
обязана организовать всеобщий саботаж против оккупантов.
2. Разрушать железные дороги, уничтожать
транспорт.
3. Почти во всех краях и
районах Югославии, особенно в Сербии, Черногории и Боснии, организованы партизанские
отряды для борьбы против оккупантов и организации диверсий, И вы должны
немедленно приступить к организации партизанских отрядов, в которые вступят все
те, кто желает бороться против оккупантов, и тем самым вы поможете СССР в его
нелегкой борьбе против фашизма, ведь это и наша борьба... -
За ЦК КПЮ
Тито».
Партизанское движение росло в стране
быстро, и вскоре, к концу лета 1941 года, была уже освобождена почти вся
западная в юго-западная Сербия, создана так называемая свободная территория. 16
сентября 1941 года генеральный секретарь КПЮ И.Броз Тито перешел из Белграда на
освобожденную территорию и уже оттуда стал руководить партизанским движением.
Сразу же после заседания Центрального
Комитета, на котором было принято историческое решение о восстании, все члены
ЦК КПЮ, в том числе и наш Уча, направились на места, каждый в свой край
поднимать народ. Наш Уча за короткое время объехал все районы, округа, области
Воеводины, и там, где он и его соратники побывали, в громадных массивах
кукурузы и подсолнуха в июле – августе было создано двенадцать партизанских
отрядов. Они сразу же включились в активную борьбу с оккупантами. В это время на
территории Сербии действовало уже 76 партизанских отрядов, руководимых коммунистами.
Подполье в нашем городе жило своей напряженной
жизнью. Хотя часть товарищей гестапо схватило в свой первый налет, еще 22 июня,
остальные продолжали действовать. Акции, так мы называли дела, проводимые тройками,
были самыми различными. Мы расклеивали листовки в сербской части города, засыпали
песок в буксы, выводили из строя
шланги воздушных тормозов у товарников на полустанках, продолжали собирать
оружие, разведывательную информацию в своих микрорайонах, принимали участие в
подрыве железнодорожного моста через канал на дороге Вршац — Темишоара. Дорога,
правда, была не стратегическая, но наша операция здорово переполошила немцев.
Земля начинала гореть под ногами оккупантов и потому, когда в Северном, Среднем
и Южном Банате появились партизанские отряды, когда запылали пшеница и
пеньковые заводы, так нужные рейху, Саве, Миле и другим нашим руководителям
захотелось сделать этот «фейерверк» еще более ярким, отовсюду заметным, и они
решили взорвать мост.
Во время взрыва моста я стоял на страже в
конце длинной пыльной Темишварской улицы на окраине города и должен был
передать сигнал опасности, если бы я его получил по цепочке. Взрывать мост
решили вечером, после сумерек. Время тянулось мучительно медленно, было зябко,
я напряженно прислушивался, ждал взрыва. Вдруг прибегает Елена и шепотом
передает, что нужно уходить. Мина взорвалась неудачно, что-то в ней не сработало,
земля вздыбилась вокруг, а сам мост не пострадал. Жаль было, конечно, что мост
остался цел, но это было лишь начало, и мы особенно не расстраивались. Мы были
уверены, что еще не один мост, не один состав взлетит на воздух от наших мин.
РУДИ
Помимо обязанностей связного была у меня
и другая задача. Наш подпольный радиоприемник находился в доме семьи
арестованного, а затем расстрелянного немца-коммуниста Руди – Рудольфа
Корнауэра.
|
|
|
Руди – Рудольф Корнауэр, активный участник подполья. Арестован гестапо 22.06.1941 г., расстрелян 31.07.1941 г. |
Руди я знал еще до войны. Он часто
заходил к нам домой с тем или иным поручением. Среднего роста, коренастый,
румяный, крепкий, Руди олицетворял для меня здоровье, внутреннюю собранность и
организованность. Руди — простой рабочий, но самообразованием достиг многого,
выдвинулся в вожаки рабочего класса. До войны он руководил секцией наемных
рабочих в профсоюзах. Руди представлял ту часть немецкого рабочего класса,
которая не поддалась на разнузданную националистическую и
человеконенавистническую расовую пропаганду, а стояла насмерть в борьбе с
фашизмом. Мне почему-то на всю жизнь запомнились веселые морщинки вокруг его
лучистых глаз и твердая мозолистая рука, которую он всегда протягивал при
встрече.
Генерал полиции Райт знал о влиянии Руди
на рабочих. Не желая, чтобы среди соплеменников были враги режима, Райт
предложил Руди сотрудничать с оккупантами, причем в ультимативной форме:
— Или ты подпишешь подготовленный текст
обращения к фольксдойче и вместе с руководимым тобой профсоюзом признаешь рейх
и германскую армию, или расстрел!
Но он плохо знал нашего Руди. Руди не
только отказался подписать обращение к фольксдойче, он убедительно обосновал
свой отказ. Профсоюзная организация, которой он руководит, — организация
немецких рабочих, Гитлер и его армия представляют ударную силу монополий,
против которых его профсоюз борется, и потому Руди как руководитель,
возглавляющий эту борьбу, подписывать предложенную бумагу не станет. Тем более,
не удержался Руди, что Гитлер и его армия все равно будут разгромлены.
Руди расстреляли. Это была одна из наших
первых потерь, тяжелых и невосполнимых. Мы потеряли надежного друга, настоящего
интернационалиста, кристально чистого человека. Жить в оккупации — значило для
Руди бороться с фашистской нечистью, и любая сделка со своими убеждениями и принципами
была для него равносильна смерти.
Такой же убежденной и непримиримой к
фашизму оказалась и супруга Руди, Анни, тихая и скромная женщина. Она передала
нам, что друзья Руди — ее друзья, и пусть нас не смущает, что она в
«культурбунде». Руди сам предложил ей туда вступить, сказал, что так надо. Анни
согласилась, чтобы вечерами мы слушали у нее радиопередачи из Москвы, только попросила
нас соблюдать чрезвычайную осторожность.
И вот я в доме у Анни. Ровно в двадцать
один тридцать по нашему времени включаю приемник «Филлипс», настраиваю на
московскую волну, и вскоре до меня доносятся знакомые звуки «Интернационала», а
затем и голос диктора. Стараюсь записать как можно больше, не пропустить ни
одного слова. С непривычки и от напряжения я даже взмок. К тому же тяжело было
слышать об отступлении советских войск, о том, что оставлены города:
Ровно, Котовск, Минск, Житомир, Киев,
Могилев, Смоленск, Ярцево... Города с похожими на сербские названиями я жалел
больше всего. Казалось, совсем родные города, а вот оставлены...
О своих успехах на фронте фашисты трубили
на всех перекрестках. Город был разукрашен плакатами, которые изображали эсэсовских
головорезов «освободителями» народов Европы. Мы, комсомольцы, не могли без
отвращения смотреть на эти «образцы наглядной пропаганды» и, улучив момент,
ловко срывали плакаты или портили их в вечерние сумерки метким броском
перезревшего помидора. А утром смотришь — наглая эсэсовская рожа на плакате
плачет кровавыми слезами с засохшими семечками. Гитлерюгенд даже стал
выставлять дежурных.
В те тяжелые дни, слушая голос Москвы,
мне было приятно записывать потери немцев: столько уничтожено танков, самолетов,
столько-то фашистов...
Особенно радовали меня сообщения об
атаках советских войск на отдельных участках фронта, в боях за такие города,
как Ельня, Великие Луки, где фашистам пришлось ох как несладко! Я по своей
неосведомленности Великие Луки представлял большим портовым городом, так как в
переводе на сербский «Великие Луки» означает «большие порты», и у меня перед
глазами возникали красивые портовые города, где русские уложили штабеля этих
сволочей – эсэсовцев. Слушая передачу, я испытывал радостно-злобное чувство,
радостное по отношению к нашим, а злобное — к немцам. Ага! Неправда ваша, господа
фашисты, когда кричите, что разбили русских, что уничтожили коммунистов в горах
Сербии и Черногории. Действуют наши товарищи партизаны и в Сербии, и на
Украине, и в Черногории, и в Белоруссии. Не покорился вам советский народ, не
покоримся и мы!
Последние известия кончались, я
дослушивал бой курантов, переводил стрелку радиоприемника на другую волну,
чтобы в случае чего нельзя было догадаться, что здесь слушали Московское радио,
переписывал записи начисто, сжигал черновик и выходил на темную улицу. После
этих передач становилось легче на душе. Не так все тяжело и мрачно, как
преподносят немцы, думал я, глядя на разжиревшую фашистскую солдатню. Связь с
Савой и Милой я поддерживал два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в малой
православной церкви во время вечернего богослужения. Иногда мы встречались
где-нибудь в виноградниках. Я коротко докладывал, что сделал, передавал записи
радиопередач, получал указания.
Если я путал названия городов во время
радиосеансов, Мила меня ругала за это, просила быть повнимательнее! Я
удивлялся, откуда она сама могла знать, что передавали по радио, но оказалось,
что у Милы была географическая карта и она проверяла мои записи по ней.
— Цифры — сколько уничтожено фашистских солдат, танков, самолетов,
~ названия городов должны быть точными. Мы людям правду должны говорить, ведь
народ верит нам. В правде наша сила!
В те суровые летние и осенние месяцы 1941
года в сводках Совинформбюро наряду с сообщениями о кровопролитных боях и вынужденном
отступлении часто сообщалось, что на таком-то участке фронта сбито три, шесть
или семь самолетов противника, уничтожено пять, девять или десять танков, убито
пятнадцать или двадцать фашистов. Записывая эти цифры, меня так и подмывало
изменить их, чтобы число уничтоженных врагов звучало впечатляюще. Ну как я
понесу товарищам сообщение о трех сбитых самолетах и пятнадцати убитых
фашистах, когда немцы трубят на всех перекрестках о сотнях уничтоженных советских
танков и самолетов, о десятках тысяч погибших или взятых в плен красноармейцев!
Но всякий раз я вспоминал слова Милы, ее суровый взгляд и оставлял все, как
было сказано в сводке.
Принесенные мной данные переписывались в
листовки, и мы расклеивали и разбрасывали их в сербской части города и на
базаре. В листовках говорилась только правда: и о кровопролитных боях, и о
вынужденном отступлении, и о том, что Советская Россия не покорена, а Красная
Армия наносит мощные контрудары фашистам. И все это обосновывалось данными
сводки Совинформбюро. Писали мы в листовках о злодеяниях фашистов в Банате,
призывали народ не смиряться с оккупацией страны, а вместе с коммунистами и
всеми свободолюбивыми силами бороться с фашистской нечистью.
Когда я Миле рассказывал, как на улицах и
на базаре народ читает наши листовки, впитывая каждое слово правды, лицо у нее
светлело, разглаживалось, и она, улыбаясь, говорила:
— Видишь, не напрасно мы наше дело делаем...
Однажды Мила не удержалась, вновь упрекнула меня в неточности:
—
Нельзя нам путать названия городов и рек! Не «Брзина», а «Березина» и не
«Велика Лука» (Большой порт – серб., примеч.
ред.), а «Великие Луки». Это же река Березина, а Великие Луки — город в
средней России. Ты его, по-моему, с каким-то портом путаешь.
Я не сдержался и запальчиво ответил:
—
Да какая разница, «Брзина» или «Березина», «Велика» или «Великие». Разве
в этом дело? Далеко это все от нас, а они все отступают и отступают. Когда же,
наконец, русские врежут немцам?
Посмотрела Мила на меня укоризненно и отвечает:
— Конечно, не в Березине дело. Вот
Наполеон и Березину перешел, и Москву взял, а все равно еле ноги из России
унес. Гитлера наши разобьют. Победа будет за нами, только дай срок. Это, может,
произойдет и не так скоро, как бы нам хотелось. Сейчас трудно, не исключено,
что будет еще труднее. Люди в городе напуганы и силой немцев, и расстрелами, и
отступлением наших на восточном фронте. Кто надеялся на быструю победу,
отступился от нас. А мы должны, обязаны продолжать борьбу, обязаны говорить народу
правду. Для того чтобы вера у людей не угасла, нам нужно работать и работать. Бумага
нужна, медикаменты нужны, явки, людей надо надежных искать и вовлекать в наше
движение.
Слушал я Милу, смотрел на нее и не переставал восхищаться ее
красотой. Осунулась она, морщинки появились раньше времени, серьезной стала и
сосредоточенной. И хотя я понимал, что изменилась она не от хорошей жизни и что
не в моих силах все поправить, мне очень хотелось видеть ее такой же радостной,
доброй и прекрасной, какой она была до войны. Но что я мог изменить?..
МАТЬ
|
|
|
Анджелия Миличевич - Зренянин |
Мою мать Анджу гестапо арестовало через
несколько дней после начала войны с СССР. В полиции ее долго допрашивали и,
конечно же, интересовались, где она была, пока ее искали. Мать отвечала
спокойно и свое отсутствие объяснила просто: ездила в Венгрию, в Новый Сад,
хлопотала о пенсии. Прямых доказательств о ее участии в подпольном движении у
немцев не было, и ее задержали как заложницу за отца. У немцев, видно,
кое-какие сведения о нем были. По городу упорно ходили слухи, что мой отец
комиссарит в одном из партизанских отрядов в горах Западной Сербии.
Моя мать до войны была известной
учительницей не только в нашем городе, но и в области, и богатые родители
старались, чтобы их отпрыски учились именно у нее в классе. Преподавала она в
немецкой школе, и Мила решила это обстоятельство использовать. У нее появилась
заманчивая идея.
— Давай, — говорит она мне, — напишем
обращение к городским властям от имени немецких и сербских богачей, чьи. дети
учились у Анджи, с просьбой освободить ее. Никаких конкретных обвинений в ее
адрес у немцев нет, она известный педагог и уважаемый своими трудами в городе
человек. Может, сумеем помочь...
Предложение понравилось, и мы его
приняли. Мила быстро сочинила текст, я его каллиграфическим почерком переписал
начисто. Составили перечень богачей, у которых я должен был собрать подписи, и
я пошел по адресам. Обошел всех. Немецкие богачи не пустили меня на порог: мол,
никакой арестованной учительницы знать не знаем. И дверью перед моим носом —
хлоп! А один миллионер, врач Кобиляк, велел на меня собаку спустить, когда я не
выдержал и закричал:
— Как же так! Ведь она столько сил
потратила на ваших сыновей! Вы же к нам в дом приходили спасибо сказать!
Вот тут-то собаку и спустили, и я
вынужден был улепетывать: и искусанным быть не хотелось, да и единственные
штаны было жалко. И еще было жалко, что не успел я мерзавцу Кобиляку высказать
все, что у меня на душе накипело.
Сербские богачи, хотя собак на меня и не
спускали, выслушав меня, отмахивались:
—
Что ты, что ты! Какая подпись, уходи подобру-поздорову! Уходи!
И я уходил как оплеванный. От бессилия и
злобы мне хотелось выть и лезть на стенку, было до слез обидно за людей, за их
трусость и эгоизм. Мила как могла утешала и ободряла меня:
—
Ну ничего. Попытка не пытка. Что от трусов можно ожидать? Надеяться можно только на своих, а эти... О
таких сволочах и говорить-то не хочется...
Мать не одобрила нашу затею с
ходатайством. Но все равно после неудачного моего похода мне на очередном
свидании стыдно было смотреть ей в глаза. Не сумел я подписи собрать под
бумагой, ничего не сделал для ее освобождении. Но мать обладала неиссякаемым
оптимизмом и верой в победу разума и справедливости.
Во время свиданий в тюрьме я передавал ей
поручения Савы и сведения с воли, а она шепотом сообщала мне тюремные новости,
которые Саву очень интересовали. Один раз я чуть не попался.
В начале июля стояла ужасная жара,
арестованных было много, камеры переполнены людьми, и потому тюремщики, проверив
принесенные продукты, разрешали свидание с родственниками прямо на большом
тюремном дворе. Впустили нас охранники во двор, там меня встретили мать и Вера.
Бабушка и дед не выходили, болели. Уселись мы в сторонке, под липой, развернул
я передачу, все выложил на землю: фасоль густую в кастрюле, лук, яички вкрутую
на тарелочке. И пока я все это хозяйство раскладывал, не переставал
разговаривать с матерью, передавал сведения с воли. Есть, говорю, для тебя
записка, я ее сейчас положу под тарелку, а ты возьми незаметно. Мать сидела
напротив, смотрела на сторожку надзирателей, улыбалась для отвода глаз. Я
достал записку, приподнял тарелку и быстро сунул ее под тарелку. Мать протянула
к тарелке руку, вдруг ее лицо меняется, и она шепчет:
— Идут!
То ли я недостаточно осторожно и быстро положил записку под
тарелку, то ли охранники следили за нами, но что-то они заподозрили и
приближались к нам. Я быстро схватил записку и проглотил, а сам нагибаюсь,
делая вид, что сандалии поправляю. Двое надзирателей уже стоят возле нас: . —
Что ты ей передал? — орет один на меня.
Другой у матери и Веры спрашивает:
—
Что он вам передал?
—
Ничего не передавал, с чего вы взяли? — спокойно отвечает мать.
Охранники тут же все обыскали, фасоль вылили, растерли по земле,
но ничего не нашли. Тогда нас на обыск повели. Обыск, разумеется, ничего не
дал, но страху я натерпелся изрядно.
Когда о случившемся в тюрьме я рассказал
Саве, он сначала, конечно, огорчился, что не удалось записку передать, но потом
похвалил меня, молодцом даже назвал, что я не растерялся. Правда, после этого
случая он решил записок больше не писать, а все необходимое передавать на
словах. Так надежнее, да и безопаснее и для матери и для меня.
При очередной встрече с Савой он мне
между прочим говорит:
-— Послушай, при свидании с Анджей спроси
ее совета, у кого бы из богатых либералов можно было деньги попросить. Мы в
трудном положении, а касса у нас пустая. Семьи арестованных и подпольщиков
бедствуют, и нечем им помочь...
Я передал матери, что Сава велел. Мать
подумала, подумала и говорит:
—
Скажи, что других людей, кроме тех, кого он и сам знает, я что-то не
припомню, вряд ли кого еще можно найти.
Затем помолчала и зашептала
быстро-быстро:
—
Знаешь что? Еще в апреле — мае я хотела наш дом продать немцу, что на
Спаичевой улице живет. Тогда он мало давал, и я отказалась. Пойди к нему,
скажи, что я согласна, пускай оформляет бумаги, а ты подпиши. Может, он и купит
дом, а то, если меня здесь долго продержат, все равно фашисты дом конфискуют. У тебя кров над
головой есть, ты живешь у бабушки, так что попробовать стоит... Если удастся,
передай деньги Саве... Другого я ничего придумать не могу...
Пошел я к немцу, так и так, говорю, мать
согласна продать дом, ей деньги срочно нужны для юриста и разных других дел.
Если можете все быстро оформить, покупайте, я за мать подпишу, что нужно. Немец
попался жадный и шустрый. Видно, очень ему хотелось дом в центре города
заиметь, да еще по дешевке. Он быстро все оформил, я передал ему ключ и
подписал все бумаги, а он мне вручил сорок тысяч марок. Деньги по тем временам
не очень большие, но и немалые.
Встретился я с Савой, передал ему сверток
с деньгами, говорю:
—
Тут сорок тысяч, мать велела отдать...
— Молодец, — похвалил меня Сава,
а сам улыбается. — Знаешь что? Я все деньги не возьму. Оставь двадцать
тысяч себе на разъезды и мало ли
на что они еще могут пригодиться...
И мы разделили деньги поровну.
ЯИЧКИ
Эти деньги я действительно берег
для поездок и, как выразился
Сава, на черный случай. На себя я почти не тратил. Покупал по карточкам прою (Кукурузный хлеб – примеч. авт.) дома у бабушки был бочонок со
свиным салом и куры, которые исправно несли яички, вот я и питался почти одними яйцами. Куры были моими
кормилицами, я берег их и аккуратно ухаживал за ними: менял воду, приносил свежую
траву, курятник чистил. Я в это время не знал, что такое голод, поедал столько
яичек, сколько куры несли.
С этими яичками у меня вышла целая история.
В конце июля в окошко с улицы постучала
соседка Ленджел, что проживала в доме напротив. Дородная, добрая женщина. Ее
муж, венгерский коммунист, был арестован в самом начале оккупации и сидел в
тюрьме. Я пустил ее в дом, она не смогла выговорить ни слова, все плакала.
Наконец произнесла:
— Была в тюрьме с
передачей, а там нету никого. Увели... всех увели.
|
|
|
Янош Ленджел, рабочий, венгерский
антифашист, член районного антифашистского штаба сопротивления, активный
пропаандист среди венгерского населения Воеводины, арестован гестапо
22.06.1941 г., подвергнут пыткам, расстрелян 31.07.1941 г. |
— Куда увели?
— Не знаю, не говорят...
Я побежал к тюрьме. Мощные тюремные
ворота, обычно наглухо закрытые, были распахнуты настежь. Во дворе тоже никого
не было, лишь у калитки скучал сторож. Я подошел к нему.
— Тут у меня была мать,
тетя, бабушка с дедом. Где их теперь найти?
Оказалось, что всех заключенных увели.
Кого в Панчево, кого в Бечкерек.
— Власти решили, — как ножом полоснул
сторож, — расстрелять заложников за убийство немецких солдат подпольщиками...
Я растерялся и испугался одновременно. Мы
уже жили при оккупации не первый день, нервы у всех были напряжены до предела,
но заложников еще не расстреливали.
В первый момент у меня руки опустились. Я
не знал, что предпринять, оцепенел. Но это состояние продолжалось недолго.
Угроза, нависшая над близкими мне людьми, заставляла действовать
незамедлительно, и я приказал сам себе: не раскисать, надо что-то придумать. И
как бывает с человеком только в минуты опасности, спасительная мысль пришла: их
увозят в другую тюрьму, но пока, может быть, они еще во дворе магистрата и
можно успеть собрать им что-нибудь в дорогу... Я побежал домой, но в нескольких
метрах от дома остановился как вкопанный от мысли, поразившей меня как гром:
«Что же я, дурак, делаю? Пока буду возиться с передачей, опоздаю, их могут
увезти, и я их никогда не увижу: ни мать, ни бабушку с дедушкой, ни тетю
Веру...»
Вконец расстроенный, я все же заскочил во
двор и сразу же бросился в курятник. Собрал яички, их оказалось всего шесть,
засунул их в карманы брюк, благо они у меня были глубокие, и со всех ног бросился
к магистрату. Прибегаю, спрашиваю у дежурного полицейского:
—
Здесь арестованные?
—
Нет, час назад увезли на грузовиках в концлагеря... Туда им и дорога.
Опоздал все-таки! Я понуро отошел от
полицейского и сел на каменную скамеечку у ворот магистрата, чтобы отдышаться и
сообразить, что же дальше-то делать. На душе было муторно. Сижу, смотрю тупо в
землю, ничего не могу придумать. Вдруг вижу, что-то из меня на землю каплет.
Батюшки мои! Я же про яйца забыл совершенно, и теперь они стекали по ногам липкой
жижей. А в это время ко мне кто-то подошел и за шиворот приподнял со скамейки.
Поднял глаза — трое верзил из гитлерюгенда. Такие все холеные, в коричневой
форме с хакенкройцем и вензелями, в отутюженных брюках. У одного в руках
громадные ножницы, он ими перед моим носом
—
Попался, болван! Сейчас мы тебя
красавцем сделаем, грязный лапоть! Что у тебя в руках?
Я, не понимая, что меня ожидает, засунул
руки в карманы с яичной кашей, показывая, что выяснять отношения не намерен. До
сих пор, если мы не задирались, фашиствующие молодчики нас не трогали. Но я не
знал, что в этот день гитлерюгенд проводил заранее запланированное мероприятие
— на улицах и площадях дюжие молодчики хватали сербов и прямо на месте стригли
огромными ножницами, которыми обычно стригут овец. Трудно поверить в это
надругательство над человеческим достоинством, в это варварство, но так было.
«Высшая раса» учила «низшую» чистоплотности. Да, да, хватали прямо на улице и
со смехом, гиканьем, издевательствами стригли пойманного парня или мужика и
отпускали пинком под зад.
Почуяв недоброе, я уперся в стену,
прошипел:
— Что вам от меня нужно, я же вас не
трогаю...
— Э нет, ты покажи, что у тебя в руках.
Почему ты их в карманы
прячешь.? Покажешь или
нет?
Я еще сильнее уперся в стену, но они, не
церемонясь, схватили меня, повалили на землю, избили, насильно остригли и,
гогоча, смотрели теперь на меня сверху вниз. Я медленно поднялся. Все
переживания сегодняшнего дня, и горечь, и ослепляющая ненависть к их
самодовольным ухмылкам прорвались наружу. Я пришел в неистовство и, хоть силы
были явно неравны, так отделал их формы яичной жижей, что, хоть и мне от них
здорово перепало, думаю, они меня надолго запомнили.
Домой я притащился весь в синяках я
ссадинах, остриженный наголо. Но боли и унижения не чувствовал, меня всего
трясло от ненависти и злобы к фашистам. К горлу подступил тугой комок, хотелось
заплакать, но глаза были сухи, и я лишь в бессильной злобе сжимал и разжимал
кулаки.
ТЕРРОР
Гитлеровцы буквально опьянели от своих первоначальных успехов
на Восточном фронте. Считая вопрос о победе над Советским Союзом предрешенным,
вели себя оккупанты нагло, бесцеремонно и в то же время усиливали репрессии;
массовые расстрелы, публичные казни уносили сотни жизней. Чтобы еще больше
запугать население на оккупированной территории, обескровить подпольное
движение, комендатура вывесила приказ — за убийство немецкого солдата будут
казнены сто местных жителей, за ранение — пятьдесят, за убийство
сотрудничавшего с вермахтом местного жителя — расстрел десяти коммунистов или
заложников и т. д.
Тяжело было нашему подполью в эти годы.
На настроении и поведении людей сказывалось положение на Восточном фронте.
Трудно было пополнять ряды участников народно-освободительной борьбы новыми
людьми, компенсировать потери. Гибли лучшие, те, кто прошел суровую школу
подполья, гибли во время столкновений с фашистами, в результате провалов,
облав. Нужна была непоколебимая убежденность в правоте своих идей, безграничная
вера в победу над коварным и жестоким врагом, чтобы в этой тяжелой обстановке
продолжать борьбу. И если голос из Москвы своими передачами нас поддерживал в
этой борьбе, то радио Лондона лило воду на мельницу врага, изо дня в день
призывая выжидать, «накапливать силы». Англичане исходили из черчиллевской
стратегической концепции — «пускай русские кровь проливают, а мы подождем» — и
из вечера в вечер повторяли одно и то же: не сопротивляться, так как еще не
наступило время, не сопротивляться, так как нет еще возможности. Ждать, ждать,
ждать!
А чего было ждать? Когда немцы дочиста
разграбят, разорят страну? Когда перебьют лучших представителей народа и
вывезут в Германию все работоспособное население? Фашисты не церемонились на
оккупированной территории, грабили, награбленное отправляли в Германию, с
людьми делали, что хотели, а за малейшее неповиновение или сопротивление всем было
уготовано одно — расстрел. Нужно им было, к примеру, на станции разгружать или
загружать товарняк — они посылали взвод солдат, окружали улицу или квартал и
выгоняли на работу всех — молодых и старых, здоровых и больных. Отпускали
через сутки, двое, трое — когда работа была сделана. И никакого, конечно,
перерыва, отдыха, люди работали под дулами автоматов как каторжные. Домой
возвращались измученные, голодные, и многие задавались вопросом: когда кончится
это беззаконие, когда же, наконец, перестанут измываться над их человеческим
достоинством? И все чаще и чаще ловили себя на мысли, что послушанием,
пассивным поведением существующее положение не изменить.
В деревне Алибунар один крестьянин щенка
до войны завел. Тогда уже в народе про Гитлера дурная слава ходила, он и назвал
щенка Гитлер. Когда наступили смутные времена, крестьянин переименовал собаку и
стал Шариком звать. Немцы оккупировали страну, пришли как-то в деревню, соседи
возьми да и донеси на него: так, мол и
так, издевался над великим фюрером, собаку его именем окрестил. Немцы
пришли к крестьянину, вытолкали из дома и требуют:
— Кликни собаку.
Мужик позвал
— Шарик,
Шарик...
Пес появился на гумне,
повертелся-повертелся, да близко не подошел, а немцы приказывают:
— Нет, ты кликни, как до войны кликал!
Крестьянин почуял недоброе, отказался, да
фашисты не отступили, силой заставили позвать собаку еще раз. Кликнул он
«Гитлер», собака, как на грех, и подбежала. Усадили их обоих на крыльцо, сфотографировали
на память и тут же расстреляли. В упор.
Воеводина, ее три области — Срем, Бачка и
Банат кровоточили. Правда, положение в этих областях сложилось по-разному. В
отличие от Баната и Бачки, где летом сорок первого года вспыхнуло восстание, и
было организовано десять партизанских отрядов, в Среме восстание еще не
начиналось. Были тому и объективные и субъективные причины. Но уже в 1942 году
Срем активно включился в народно-освободительное движение, крепко помогал
борьбе с фашистами и людьми и продуктами.
В тяжелую осень и зиму сорок первого года
наши товарищи неоднократно пытались наладить связь со сремским подпольем. А
связь эта была очень нужна, ибо без связи становилось невозможным продвижение
партизанских отрядов и подпольщиков Баната и Бачки на зимовку в горные районы
восставшей Боснии. Так, объединенный Северо-банатский партизанский отряд не
смог без связи пробиться через Срем в Боснию, был настигнут фашистскими
карателями и разбит на берегу Дуная. Лишь отдельным группам партизан удалось пробиться
через все фашистские заслоны.
В Бачке, второй по величине области
Воеводины, оккупированной венгерскими фашистами, завоеватели тоже зверствовали.
За первые годы оккупации было убито более трехсот пятидесяти коммунистов и
комсомольцев, более пяти тысяч людей было арестовано и сидело в тюрьмах и
лагерях. В ноябре 1941 года в Южной Бачке венгерские фашисты учинили настоящую
«Варфоломеевскую ночь» среди мирного сербского населения, убив более двух тысяч
четырехсот человек.
В Банате, самой большой области
Воеводины, превращенной немцами в «Донауланд», фашисты провели более двухсот
крупных военно-полицейских операций против сербского населения. Они арестовали
и подвергли пыткам более десяти тысяч людей, в том числе женщин, расстреляли
или повесили в общей сложности более двух тысяч активных участников
народно-освободительной борьбы. Так, только за первый год войны фашисты провели
и Банате двадцать девять расстрелов и повешений, не говоря о постоянных облавах
и арестах. Хватали и бросали в тюрьмы по малейшему поводу или подозрению, за
невыполнение повинностей, за распространение слухов и, конечно, за помощь
партизанам, связь с подпольем, за любую поддержку участников
народно-освободительной борьбы, пусть даже моральную.
Потери среди участников народно-освободительного
движения были очень велики. 11 июля 1941 года, при столкновении с эсэсовцами,
был наголову разбит первый Южно-банатский партизанский отряд. Партизаны
задумали взорвать товарный поезд с военным грузом на линии Панчево — Вршац, а
заодно на какое-то время вывести из строя этот важный участок железной
дороги. Но во время операции отряд был окружен превосходящими силами фашистов и
разгромлен возле деревни Войловица. Начались усиленные аресты. В конце июля
была схвачена гестаповцами член подпольного райкома Неца, отвечавшая за работу
подполья севернее Вршаца. Были провалы и в других районах.
Создавшаяся неблагоприятная обстановка
повлияла на решение Деяна и Савы не торопиться с организацией партизанского
отряда в районе Вршаца, а провести сначала основательную работу среди людей. Но
в первых числах сентября
подполье города понесло тяжелую утрату, в перестрелке с гестаповским агентом на
улице погиб наш Сава.
Нас тогда очень волновал вопрос, как
могло случиться, что немцы выследили Саву, и только после войны выяснилось, что
на след Савы гестаповцев вывел завербованный полицией еще в июне некий
Ранисавлевич, оказавшийся предателем. В тот момент мы потеряли не одного Саву,
Последовал большой провал нашей организации в городе. В сентябре — октябре
сорок первого года в районе Панчева гестапо схватило Драгицу и Ольгицу, наших
славных героических подруг.
Вместо погибшего Савы Уча назначил новым
секретарем партийного подполья Южного Баната Стевицу, но через три месяца и
Стевица погиб в перестрелке с гестаповцами.
Не много ли жертв? — скажет иной читатель
теперь, когда давно уже отгремели залпы войны и люди постепенно стали забывать
об ужасах фашизма, да и тех, кто может об этом помнить, остается все меньше. Но
тогда, в то тяжелое и мрачное для нашего народа время, мы не задумывались о
наших потерях, а если бы даже и задумались, то поступить по-иному не смогли бы.
Недалеко от нас, совсем рядом — через Дунай переплыть — жила и боролась
наша столица — Белград. Белградские коммунисты и комсомольцы в те же жаркие
месяцы лета и осени сорок первого года атаковали оккупантов на улицах Белграда.
Горели гаражи, автомашины и казармы фашистов. 4 июля подпольщики атаковали
белградскую радиостанцию и удерживали ее в течение двух часов. 26 и 27 июля
полыхали автомобильные мастерские. Комсомольцы поджигали газетные киоски.
Фашисты ввели в городе чрезвычайное положение, проводили повальные аресты,
расстреливали. Но, несмотря, ни на что, героическая борьба против оккупантов не
прекращалась, ни на час.
У белградских комсомольцев не было опыта
противоборства с врагом, тем более в условиях оккупации. Но ведь и у русских,
белорусских, украинских, латвийских ребят-подпольщиков не было такого опыта. И
им бы, наверное, не мешало подучиться и стрельбе в живого, реального врага, и
конспирации, и выдержке, но никто из них об этом не рассуждал. И стояли насмерть, защищая свою столицу, курсанты
Подольского училища и их сверстники у деревни Крюково и так же стояли насмерть
белградские комсомольцы в боях за свой город.
Все, кто боролся против фашизма в те
далекие годы, знали, что отступать некуда, что всякая заминка в борьбе может
иметь катастрофические последствия. Речь шла о достойной жизни человека на
земле. И раз народ встал на борьбу с фашизмом, эту борьбу нужно было довести до
победы. Центральный Комитет Коммунистической партии Югославии принял в то время
решение о бескомпромиссной борьбе с фашистской нечистью, и мы, комсомольцы,
готовы были это решение выполнять, несмотря на огромные жертвы, учиться борьбе
в процессе самой борьбы. Это, конечно, было очень трудно, опасно, но какая
борьба за свободу была бескровной и легкой?
Как и тысячи простых людей, я благодарен
авторам песни «День Победы», которые в прекрасной художественной форме выразили
то, что все мы тогда думали, воздали честь и славу участникам тех боев, а в
моем понимании — товарищам моим, ребятам и девушкам, которые боролись с
фашистской нечистью, как могли, и которые не дожили до победы.
Если бы они могли услышать:
День Победы,
Как он был от нас далек.
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты,
Обгоревшие в пыли,
Этот день мы приближали как могли!
Этот День Победы…
Это к ним, товарищам моим, обращены
прекрасные слова песни. К
ним, товарищам моим, память о которых и по сей день болью отзывается в
сердце...
СВЯЗЬ
|
|
|
Страхиня Стефанович, секретарь
подпольного окружного комитета КПЮ, один из организаторов
народно-освободительной борьбы в Южном
Банате. Погиб смертью храбрых 04.11.1942 г. |
Самой трудной и ответственной задачей,
которую мне доверили старшие товарищи, было поддержание связи между подпольем
города и руководством освободительного движения Южного Баната. Приходилось
иногда добираться до дальних деревень, до самого Панчева. Позже, глубокой
осенью сорок первого года, Беба передала меня на связь Страхине в Алибунаре,
километрах в сорока от нас. Работать нужно было надежно, без промахов. Нельзя
было допустить, чтобы оборвалась та единственная нить, та животворная связь,
как любил говорить Деян, с помощью которой подполье чрпает силы, обретает
уверенность в необходимости своей борьбы.
Старшие товарищи: Деян, Сава, Браца,
Беба, Страхиня, Мила, Лидия, Реля, между которыми я поддерживал связь,
терпеливо, каждый по-своему учили меня сложной науке конспирации, которую и
сами они начали постигать не так давно. Они натаскивали меня, как птенца, не
раз и не два повторяли, что нужно запомнить, кому и как передать, и всякий раз,
прежде чем отправить на задание, не уставали повторять об осторожности, о
возможных «хвостах», сочиняли для меня легенды, требовали, чтобы я отвечал на
их вопросы, как если бы меня остановили фашисты: куда еду, зачем, что за
барахлишко несу, на что обменял, откуда у меня лекарства, почему нет билета.
Особенно дотошна, просто неистощима в своих вопросах была Мила; она не
успокаивалась до тех пор, пока я на все вопросы не находил правильный ответ.
Она же сделала мне хороший тайничок в пальто, куда при случае я мог прятать
записки, листовки и другие бумаги.
В начале оккупации немцы чувствовали себя
вольготно и особых ограничений при передвижении не устанавливали. Я даже в это
время свободно в Белград переходил, а в конце августа — сентября на несколько
дней пробрался в Западную Сербию на свободную партизанскую территорию
Посавско-Тамнавского партизанского отряда, где были отец и старший брат. Очень хотел отца увидеть про мать
рассказать, что жива, хоть и держат ее немцы в тюрьме в Бечкереке. Но увидеться
не удалось. Мотался партизанский отряд, как, впрочем, и другие, по Западу
Сербии; расширяя освобожденную территорию, окружая крупные города (например,
Шабац и Валево), били немцев в хвост и в гриву. Жаркое было время и в прямом и
в переносном смысле.
|
|
|
Лидия Алдан, студентка,
русского происхождения, руководитель подпольного комитета антифашистской
молодежи Южного Баната, пала смертью храбрых в неравном бою, окруженная полицейскими
ищейками 05.04.1942 |
Выполнив задание, я снова уходил в Южный
Банат, с восхищением вспоминая жизнь на свободной территории, песни, что пели
тогда партизаны, и, когда в глухом подполье рассказывал обо всем увиденном
товарищам, они слушали с удивлением и порой даже недоверчиво покачивали
головами. Трудно было представить, что такое возможно, что есть территория, где
немцев нет и можно свободно, не оглядываясь, ходить по улицам, громко разговаривать и даже петь
революционные песни.
Но народная борьба в Сербии ширилась,
немцы опомнились и завели пропускную систему, так называемые «аусвайсы», и их
выдавали только «надежным» людям. Когда можно было достать «аусвайс», я
чувствовал себя кумом королю! Но такое случалось нечасто, в основном, конечно,
приходилось «путешествовать» без пропуска. Ведь ехать было надо. Надо! Бывалые
партизаны после войны шутили: «Кому во время оккупации приходилось труднее
всего? Партизанскому коню и связному!»
Шутка шуткой, а бывало действительно и
трудно и страшно. Но зато какая радость читалась на лицах товарищей, когда я
четко выполнял задание, передавал материал, информацию, боевой привет друзей.
Память почему-то высвечивает из дальних закоулков живое, радостное и прекрасное
лицо Милы. Как она преображалась! Ее лицо светилось той внутренней энергией,
которую в тяжелых условиях подполья сорок первого года давало чувство локтя,
уверенность, что ты не один, что есть у тебя
товарищи, которые помогут в
трудную минуту и, главное, продолжат начатое тобой дело, продолжат
борьбу.
Обычно в условленный день на
привокзальной площади в Панчеве меня встречал кто-нибудь из подпольщиков. После
обмена паролем товарищ долго водил меня по улицам, проверяя, нет ли слежки,
потом мы или входили в маленький приземистый домик или присаживались для разговора
на какой-нибудь скамеечке под тутой, каких много на тихих улочках предместья
Панчева. Встречала меня чаще всего Беба, иногда Браца.
Браца был строг, замкнут, суров. Он
подробно расспрашивал обо всем, особенно что нового во Вршаце, и, передав задание,
еще и еще раз напоминал мне об осторожности и строгой конспирации. Однажды,
получив от меня письмо, он поинтересовался, где мне его передали. Я ответил:
— У входа в малую церковь,
— А кто там сейчас протоиерей?
— Поп Рада. Помнишь, лётичевец довоенный,
бешеный такой... Все время его встречаю. Говорят, его немцы в архиепископы
прочат.
— Поп Рада? Конечно, помню. А ты ему при
встрече ручку целуешь?
— Еще чего, такой падали ручку целовать!
— Тут
Браца крепко меня отчитал. Дело в том, что у нас в гимназии еще до войны
полагалось при встрече с протоиереем ручку ему целовать.
— Понимать надо, голова садовая! Против
нас страшная сила, устоять трудно.
Подпольщик должен быть неприметен, ничем не выделять себя. Тебе следует казаться смиренным и богобоязненным человеком.
И при встречах с попом Радой ручку
ему целуй, чтоб он тебя таким и запомнил! Слышишь? —
приказал мне Браца.
Хоть и не был я с ним в душе согласен,
дисциплина у нас была железная. После разговора с Брацей стал попу Раде ручку
целовать. Гоняем мы, бывало, тряпичный мяч с ребятами — мне во время этих
футбольных баталий было удобно с ребятами контакты устанавливать, и я даже
специально организовывал «турнирчики», улица на улицу, квартал на квартал, — но
стоит появиться попу Раде, как я срывал с себя картуз, стрелой несся к попу,
чтобы никто меня обогнать не мог, и прикладывался к его ручке. Очень уж мне
понравилось из себя пай-мальчика строить, вошел я во вкус с этими
поцелуйчиками. Так старательно чмок-чмок, а он доволен, гладит меня по голове и
приговаривает:
— Да благословит вас бог за старание и
богобоязненность, дети мои!
И совершенно неожиданно мне моя
«богобоязненность» помогла. И еще как помогла — спасла от верной гибели. Не
случись это именно со мной, никогда бы не поверил, что такое возможно. Век буду
благодарить Брацу, он как в воду смотрел, когда поучал, как вести себя с попом.
Как-то осенью Мила при встрече передала,
что мне необходимо ехать в Панчево.
«Аусвайс» на этот раз достать не удалось.
Обычно знакомый врач Джурич давал мне справку, что моя родная тетя лежит якобы
в больнице в Панчеве, по этой-то справке мне и выдавали «аусвайс». На сей раз
врач куда-то уехал, а мне отправляться нужно было немедленно. Гитлеровские
порядки на железнодорожной линии Вршац — Панчево я изучил хорошо. Не зря гонял
с ребятами мяч на пустыре у привокзальной площади. Собранные сведения мне
здорово пригодились.
Поезд уходил утром, а возвращался в город
вечером. В поезде девять вагонов, пятый — средний — мягкий, первого класса.
Патруль из пяти человек садился в вагон перед свистком паровоза. Двое — в
первый и трое — в задний вагон. После проверки вагонов отдыхали в среднем. Для
того чтобы избежать встречи с патрулем, необходимо было сесть в момент начала
движения поезда в средний вагон на первой остановке — во Влайковаце, а на
обратном пути — в Новом селе — сойти и перейти в первый или последний вагон,
где документы уже проверили. Процедуру проверки документов немцы выполняли
пунктуально, и всегда по прибытии поезда в конечный пункт они выходили из
мягкого вагона. А если даже иногда они изменяли своему правилу, то их все равно
можно было обхитрить, выждав и сев в вагон сразу после них.
Но... в жизни часто случаются эти «но»...
В Панчево я добрался благополучно. Ребята вывели меня на Бебу. Мы с ней все
обговорили, я хорошо экипировался и собрался в обратный путь. В пальто у меня,
за подкладкой, несколько номеров «Пролетера», листовки окружного комитета КПЮ —
все на папиросной бумаге, в корзинке немного продуктов, яблоки, обернутые в
газету, а на дне — две «лимонки», тоже в газету обернутые. И вот я на вокзале.
Типичная привокзальная сутолока, знакомая по прежним поездкам. Ничего
подозрительного не замечаю. Пассажиры, в большинстве своем крестьяне с мешками,
курами и гусями, которых не сумели продать, усаживались в вагоны. Дежурные
полицейские на своих обычных местах: по углам зданий и в дверях. Я жду, когда
выйдет патруль и разойдется по вагонам. Ага, наконец-то! Патрульные
разделились, двое направились к переднему вагону, трое — к заднему. Кажется,
все в порядке. И я, не проследив за ними до конца, вскакиваю в тамбур среднего
вагона.
Здесь стоят человек пять-шесть крестьян.
Все как обычно, только поезд что-то все не трогается. Может, посмотреть, в чем
там дело? Нет, не стоит высовываться и привлекать внимание. Подожду лучше в
тамбуре, решаю я. Вдруг дверь открывается, и в вагон входят фельдфебель и двое
солдат.
—
Документы, аусвайс, битте!
Солдат уже возле меня, руку протягивает, требует
«аусвайс». Я лепечу, что в больнице был, тетю оперированную навещал, а в Вршаце
сказали что «аусвайс» не нужен, «неполнолетний» мол, я. Солдат
смотрит тупо на меня, совершенно не слушает, что говорю, требует свое —
«аусвайс». А я все про тетю лепечу, хоть и вижу, что никакой реакции мои слова
не вызывают. Вот ему уже надоело возле меня стоять, и он кричит фельдфебелю
— Хир айн юнге хат кайне документен!
— Гиб им хераус, — командует фельдфебель.
Немец за шиворот выволакивает меня из тамбура.
Стоим у вагона, ждем. В голове проносится
«Влип, влип! Что делать? Бежать? Не дадут, вон их сколько! Сейчас поведут в
комендатуру, обыщут, и все, конец!» Мысль лихорадочно работает: «Надо что-то
делать, что-то делать. Но что?» В дверях вагона появляется фельдфебель
собирается соскочить с подножки, но тут что-то привлекает его внимание, я слежу
за его взглядом и — о чудо — из дверей вокзала — надо же такому случиться! —
запыхавшись спешит к вагону поп Рада! Шелковая черная мантия развевается на
ветру. Моя мысль срабатывает автоматически Я вырываюсь из рук солдата стремглав
лечу к попу и пытаюсь схватить его ручку для поцелуя
— Некогда, сынок, видишь, поезд сейчас
отправится. Но я все-таки руку хватаю —
чмок-чмок! — а сам
слежу за происходящим. Солдат
уже подбегает, фельдфебель соскочил с подножки и тоже направляется к нам. Я не
отпуская руку попа Рады быстро-быстро говорю
—
Господин архиепископ! Я у тети в больнице был оперированная она, от
желчи, бабушка просила фрукты передать, а аусвайс в Вршаце не дали, сказали —
не нужно, малолетний, а солдат хватает. Помогите, скажите, что я из Вршаца, а то
они вон не верят.
Лепечу, по щекам слезы текут, я их еще грязными
руками размазал, и опять про тетю, как она плоха. Поп останавливается,
спрашивает у фельдфебеля, в чем дело, почему задержали мальчика. А по-немецки
шпарит будь здоров! Фельдфебель отвечает, что у меня нет документов. Поп Рада
достает свои. Фельдфебель их внимательно изучил. По всему видно документ у попа
был убедительный, немец честь отдал, возвращая документ. Поп Рада объяснил что
знает меня, пацан я хороший, в церкви прислуживаю. Повторяет мои слова про
тетю, бабушку и больницу, просит, чтобы меня отпустили.
Фельдфебель смотрит на меня, на мое
замурзанное лицо, пожимает плечами:
— Ви воллен зи, битте! — Отдает
честь, и я свободен!
За попом Радой вхожу в вагон
— Заходи в салон — предлагает он.
— Спасибо, господин архиепископ, я лучше
в тамбуре, башмаки грязные.
Поп, улыбнувшись, проходит в салон. Поезд
трогается, я присаживаюсь в угол, ноги не держат. Только теперь понимаю, какая
беда миновала. Зубы стучат мелкой дрожью. Пронесло! Ох ты пронесло! Под стук
колес успокаиваюсь окончательно, начинаю рассуждать сам с собой. Да, собственно
чего трястись-то? Все отлично! Я маленький, худющий пацан, немец ввек не
догадается, кто я и что я. Ношу короткие штанишки хоть и стесняюсь этого немного,
стригусь коротко, на меня никто и внимания-то не обращает. А в том, что
произошло сам виноват. Нужно было подождать пока поезд тронется, и потом только
вспрыгнуть на ходу, а я расслабился Прав Браца, тысячу раз прав, нужно быть
настороже каждую секунду, и все будет в порядке.
Не мне, старшим товарищам — вот кому
действительно трудно. Немцы за ними во все глаза смотрят Им обмануть
перехитрить врагов непросто, ох как непросто! Взять хотя бы Бебу, нашу Бебу,
сестру Брацы. Она старше Брацы годика на два, а как много успела сделать! До
войны училась на юридическом факультете и в 1939—1940 годах вместе с моей
матерью активно участвовала в прогрессивном женском движении в Вршаце и Южном
Банате. Скольким женщинам она открыла глаза, скольких приобщила к новой жизни,
сколько вложила души в сложную и такую благородную свою работу — эта
мягкая, интеллигентная девушка! Успевала она и работать в нашей подпольной
типографии, и вести занятия в рабочих кружках. Любую работу она делала
спокойно, уверенно, без суеты. Избрав в юности путь борьбы за дело народа, она
не свернула с этого благородного пути до конца своих дней.
Сидя в тамбуре поезда и все еще переживая
случившееся час назад, я ясно увидел ее, Бебу, и улыбнулся. Я расстался с ней
всего четыре часа назад. Вывели меня на встречу с Бебой в скверике. Сначала не
узнал ее, так она изменила свою внешность. Она и раньше так делала. Но на сей
раз меня неприятно поразило, какая она была вся расфуфыренная, раскрашенная, в
юбке выше коленей — точь-в-точь уличная девица. Беба, сразу уловив мой
неодобрительный взгляд, улыбнулась, тихо сказала:
— Так надо...
Я и сам понимал, что раз она так оделась,
значит, так нужно для пользы дела, которому она служит и ради которого она была
готова всем пожертвовать, а если потребуется, то и жизнь отдать. С начала
оккупации Беба руководила комсомольским подпольем Южного Баната, была членом
подпольного комитета партии в нашем крае. Вместе с Брацей она взвалила на свои
девичьи плечи тяжелейшую подпольную работу и успешно справлялась с ней. Я любил
выполнять ее поручения и всегда с удовольствием слушал ее. Голос у нее был
приятный. Она немного шепелявила, и это придавало ее голосу что-то детское, да
и от нее самой исходила какая-то нежная чистота. Тогда нам почти ежедневно
приходилось сталкиваться с жестокостью, предательством, смертельной опасностью,
и неудивительно, что Бебе, да и всем нашим девушкам приходилось очень тяжело...
ЛЕЙТЕНАНТ
С Бебой я выходил на связь часто, чаще,
чем с другими подпольщиками. Больше таких промахов, что случился со мной на
вокзале в Панчеве, не допускал. Вел себя крайне осторожно. В этот раз я шел на
встречу с Бебой, незаметно оглядываясь, проверяя, нет ли за мной «хвоста».
Товарищ, который вел меня, шел впереди, метрах в пятнадцати, как и положено по
инструкции. Мимо прошел немецкий офицер, лицо показалось мне знакомым, кого-то
он мне напоминал. Но я решил, что мне померещилось, мало ли немецких
лейтенантов ходит по Панчеву. Не исключено, что и этого немца я когда-то
встречал, в один из прошлых приездов в город. Но через какое-то время опять
мимо промелькнул все тот же немец, и я опять поймал себя на мысли, что его лицо
мне хорошо знакомо. Но сбивала меня с толку его форма: не станут же немцы
одевать офицерскую форму шпиона, чтобы вести слежку?! Гестаповский сыщик должен
быть незаметен в толпе, чтобы на него никто внимания не обращал, а форма, да
еще такая новенькая, с иголочки, сразу бросается в глаза. Наверное, это
все-таки случайность, что один и тот же немец дважды попадается на пути.
Я встретился с Бебой, передал, что
товарищи просили, она мне свою информацию выложила, стоим с ней, разговариваем.
Вдруг вижу, по другой стороне улицы опять идет этот немецкий лейтенант! Тут уж
я заволновался не на шутку, говорю:
— Беба, мне что-то не нравится вон тот
немец, третий раз уже его вижу. Не к добру это, и лицо вроде знакомое. Странно,
надо уходить...
Беба восприняла мое предупреждение
равнодушно, даже не посмотрела в ту сторону и как ни в чем не бывало сказала:
— Тебе показалось...
— Как показалось? Ты что? Я плохо вижу, что ли?
Я все больше горячился, повторял, что это
неспроста, дело здесь нечисто и надо расходиться, пока не поздно. А Беба вдруг
рассмеялась. Я растерянно хлопал глазами, не понимая, что же тут смешного.
— Ты что же, не узнал? Это ведь Браца! —
успокоила она меня.
Батюшки! Как это я так оплошал! Я
присмотрелся к лейтенанту — точно он, Браца! Ох и развеселился же я! Смеялся и
все повторял: «Во дает Браца, во дает!»
Оказалось, Браца давно задумал достать
немецкую офицерскую форму, она ему понадобилась для выполнения задания.
Немецкая форма — хорошее прикрытие для подпольщика. И полезно, и надежно, и
оперативный простор дает. В офицерской форме можно попасть туда, куда обычный
прохожий и носа сунуть не сможет. И решил Браца для этой цели познакомиться с
кем-нибудь из немецких офицеров. Стал захаживать в офицерское казино. Оденется
с иголочки: черный костюм, белая накрахмаленная рубашка, галстук-бабочка,
штиблеты до блеска начистит и пошел. Франт франтом. Риск, конечно, был большой,
но Браца считал, что на войне риск оправдывается. Да и хотелось ему самому
испытать себя в настоящем деле, посмотреть, на что он сам способен. Несколько
вечеров присматривался, а потом и повезло, встретил подходящего немца.
В казино, у бара, Браца заприметил
молодого стройного офицера, который часто выпивал и ходил под хмельком.
Заговорил с ним Браца, по-немецки он лопотал не хуже наших фольксдойче.
Наговорил немцу невесть что, тот уши и развесил. Ввернул про богатое имение
отца, про учебу в Берлине, а исподволь вытянул из собеседника нужные сведения.
Узнал Браца, что лейтенант Алойз уезжает по делам, и очень обрадовался, это ему
было как нельзя кстати.
Браца, если хотел, любого мог заговорить.
Подпоил он еще немца и, когда тот почти совсем опьянел, предложил, из лучших
чувств, отвезти его домой. Немец согласился. Браца его доставил на квартиру,
все чин чином, помог раздеться, уложил в постель. И когда немец стал
заплетающимся языком благодарить молодого богатого наци, Браца предложил:
— Хотите посмотреть, как я буду выглядеть
в форме офицера рейха?
Алойз пришел в восторг и с бессмысленной
пьяной улыбкой наблюдал, как Браца переодевается. Браца закончил свой туалет,
расправил надетую форму — она сидела как нельзя лучше — налил последнюю рюмку,
на посошок, как говорится, преподнес немцу прямо в кровать, а когда тот стал
пить, Браца врезал ему бутылкой по башке. Забрал пистолет, запасные обоймы,
документы и тихо вышел. Остальное было делом техники. На улице Брацу уже
ожидала ударная тройка панчевских подпольщиков.
Сейчас, в восьмидесятые годы, это звучат
как незатейливый детектив, но в то далекое и страшное время конца сорок первого
года я слушал Бебин шепот как зачарованный и с восхищением думал: «Вот это
акция! Чисто сработано!» Потери у нас тогда были очень велики, и каждая удачная
операция для всех нас была огромной радостью, бальзамом на наши израненные
души.
ДРАГИНЯ
При очередной встрече с Бебой я передал
ей сообщение Милы о сентябрьских провалах и арестах в городе. Грустно было
сознавать, что движение из-за этого замирает. Бебе и руководству подполья
предстояло многое продумать: как привлечь к подпольной работе новых людей,
восстановить явки, связи. В ноябре сорок первого года я последний раз
встретился с Бебой. Она меня передавала на связь со Страхиней, который
действовал в районе Алибунара, деревни, расположенной. между Панчевом и
Вршацем. Именно ему партия поручила восстановить деятельность подполья в нашем
городе.
Страхиню я знал еще до войны. Он часто
заходил к нам домой по делам, да и просто так, на «огонек», взять что-нибудь
почитать из отцовской библиотеки, поговорить о новостях. Он учился в то время
на юридическом факультете, был худощавым, бледнолицым и всегда серьезным
молодым человеком. Он много читал, разговаривать с ним было всегда интересно.
Страхиня и его семья, Стефановичи, — люди замечательные.
Родители Страхини — Драгиня и Милан —
выходцы из многодетных крестьянских семей бедняков из села Избиште,
расположенного километрах в двадцати юго-западнее Вршаца. Жили они по соседству
с родителями Учи. Потянулась Драгиня к старшей соседке. Все ей в Драге
нравилось: и как она в доме верховодит, и как хлеб печет, и какая она чистюля,
и как своих пятерых детей: Жарко, Анджу, Веру, Спасу, Любиму — воспитывает.
Любая работа у Драги кипела; так и у
Драгини: за что ни возьмется — все спорится. Задумала Драга детей своих учить
и, как ни тяжело было, всем дала образование. Драгиня и здесь не отставала,
тоже стала подумывать, как сыновей выучить, их у нее четверо было: Страхиня,
Светислав, Момчило и Реля. Ребята как на подбор, трудолюбивые, дружные, жадные
до ученья, знающие цену куску хлеба и тяжелому крестьянскому труду. Видели они,
как приходится отцу с матерью, которые, не разгибая спины, с утра до ночи
работали, чтобы накормить детей, одеть, обуть и выучить.
Анджа, Жарко, старшие дети Драги, стали
учителями, в крае о них шла молва как о лучших педагогах. Драгиня своих детей
тоже определила по учительской части. Момчило, Светислав и Реля закончили
педагогическое училище и стали обучать грамоте крестьянских детей в деревнях
Южного Баната. Старший сын Драгини, Страхиня, закончил гимназию и поступил
учиться на юридический факультет Белградского университета.
Дети Драги и Драгини стали активными
борцами с существующим строем. Жарко в конце двадцатых годов восстановил
разгромленное партийное подполье, расширил его деятельность, и, конечно же, в
своей работе он опирался на надежных друзей — братьев Стефановичей. В 1936 году
Страхиня вступил в Коммунистическую партию
Югославии, действовавшую в подполье, активно участвовал в бурных
студенческих выступлениях в Белграде, вел кропотливую подпольную работу среди
крестьянской массы Южного Баната. Не отставал от брата и самый младший — Реля.
Он возглавлял и направлял всю комсомольскую работу в педагогическом училище во
Вршаце. Братья, Момчило и Света, активно участвовали в прогрессивном
учительском движении.
Удивительные это были родители — Драгиня и Милан, Драга и
Жива. Они совершили настоящий родительский подвиг, воспитав таких замечательных
детей. Малограмотные труженики, всю жизнь подневольные, зависевшие от короля,
богатеев, судьи, попа, помещика, бога, погоды, почти ото всех стихийных и
нестихийных сил, они оставались людьми честными, добрыми и стремились передать
свое представление о жизни своим детям, приобщить их к знаниям, чтобы потом они
несли эти знания дальше, людям. И если немногословные Драга и Драгиня говорили
кому-нибудь из своих детей, совершивших проступок, свое родительское: «Ты
обязан быть человеком!» — то для всех это звучало как предупреждение и как
призыв и имело вполне определенный смысл: ты должен быть трудолюбивым, честным,
сильным и добрым! И всегда держать свое слово! Алчность, стремление к наживе,
трусость вызывали у матерей такую презрительную улыбку, такое внутреннее
негодование, что дети запомнили это на всю жизнь. Каждый из них мог выбрать
свою стежку-дорожку в жизни, но смешивать добро и зло, сидеть на двух стульях,
трусить, торговать своей совестью и принципами никто из них уже не мог, это
было исключено.
Отцы этих замечательных семейств, Жива и Милан были под
стать своим женам: трудолюбивые, честные, добрые и чем-то похожие друг на
друга. Большую часть времени в году они проводили за работой в поле, с весны до
осени, по двадцать часов в сутки. Но было у них одно увлечение, чем они,
пожалуй, и отличались од односельчан. И Жива и Милан очень любили сербские
народные былины, народные сказания, древний эпос, бережно хранили их в своей
цепкой памяти. Намолчавшись в страдную пору, любили они собираться вместе в длинные зимние вечера по воскресеньям
или к Рождеству, и тогда перед детьми происходило великолепное действо - они
пересказывали народные предания. И делали это превосходно.
Дети сидели на земляном полу у печки и слушали, затаив
дыхание. Десятистопный стих, знаменитый сербский "десетерац", лился
легко, по мере повествования голос рассказчика то поднимался до высокой
патетики, то переходил на трагический шепот. Они рассказывали о Милоше Обиличе,
убившем турецкого султана Мурата, о гибели Милоша во имя спасения сербского
войска, идущего на очевидную смерть "За крст часни и слободу златну!"("3а крест честный
и свободу золотую!"), как говорится в былине; о великолепном королевиче
Марко, который все пахал землю, пока не допекли его турки своими поборами.
Когда лопнуло у Марко терпение - бросил он пахать, поднял соху с волами над головой
и замахнулся на завоевателей, которые помчались от него без оглядки. Понял
Марко, что терпением да смирением не справиться с врагом, и встал он на
смертный бой с иноземцами вместе со всем народом.
Десетерац воспевал знаменитого Бановича Страхиню, которому
дороже всего на свете была честь и свобода, воспевал он и бесстрашного Релю
Крилатицу и народных мстителей - гайдуков, которые не мирились с рабством и
уходили в горы, поднимали народ на борьбу с ненавистными завоевателями.
Рассказывалось в десетерце и о том, что народным мстителем может стать не
каждый, а лишь:
|
«Тай ко може стичи и утечи, И на страшном месту постояти» (Тот, кто может подоспеть и скрыться И сумеет
промолчать под пыткой!) |
Знали Милан и Жива прекрасные стихи об известном
предводителе гайдуков, Старом Вуядине, которого турки поймали вместе с
сыновьями и повели в крепость Лиевно пытать, с тем, чтобы он выдал им своих
товарищей. Старый Вуядин обратился к сыновьям с такими словами:
|
«О синови мои
соколови, Видите ли
проклето Лиевно? Те у нему биели
се кула Овде че нас
бити и мучити: Пребияти и руке
и ноге, И вадити наше
очи чарне. О синови мои
соколови, Не будите срца
удовичка, Но будите срца
юначкога,- Не одайте друга
ни еднога...!" (Ой, вы соколы,
сыны и други, Видите проклятое Лиевно, Где высокая
белеет башня? Там нас будут
избивать и мучить, Будут руки нам
ломать и ноги, Тело рвать,
выкалывать нам очи. Ой, вы соколы,
сыны и други, Вы не будьте
сердцем малодушны, А вы будьте
сердцем как герои, Никого не выдайте под пыткой. . .) |
Палачи
начали истязать Старого Вуядина на глазах у сыновей, перебили ему и руки и
ноги, а когда стали угрожать, что выколют глаза, то он ответил им:
|
"Не лудујте Турци Лиоевљани! Кад не казах за
те хитре ноге, Коено су коньма
утјецале, И не казах за јуначке руке, Коено су копла преламале, И на голе сабле
ударале,- Я не казах за
лажливе очи, Које су ме на зло наводиле!" (Не беснуйтесь,
зря вы, лиевляне Коль я из-за быстрых ног не выдал, Что от ваших
коней убегали Коль не выдал
из-за рук геройских, Что ломали вражеские
копья, И за сабли
голые хватались Я не выдам
из-за глаз неверных, Что меня на гибель наводили...! ) |
И сыновья
Старого Вуядина стояли насмерть!
Дети остро переживали вместе с
рассказчиками все перипетии схваток народных богатырей с врагами, радуясь
успехам героев и заливаясь слезами, когда они гибли. Заложенные в детские души
семена добра не пропали даром. Дети Драги и Драгини выросли честными, добрыми и
справедливыми людьми. Когда началась подпольная работа по организации бедноты
на борьбу за лучшую долю, в первые ряды борцов, не колеблясь, встали они, дети
Драгини и Милана, Драги и Живы, и с этого благородного пути их уже не могла
свернуть никакая сила. В тридцатые годы их детей арестовывали, допрашивали,
пытали, отправляли на каторгу, но они продолжали бороться. И родители гордились
своими детьми, они не бросили им ни единого слова упрека. Болело материнское
сердце, но упреков не было. Родители были убеждены, выстрадав это убеждение
бессонными ночами, что дети их на верном пути, раз борются за правду, за
справедливое дело народа. И в эти трудные минуты они гордились детьми и помогали
им чем могли. А переживания и бессонные ночи легли новыми морщинками на их
высушенных ветрами крестьянские лица, такие прекрасные в своей простоте. Когда
они шли с передачами для своих детей в тюрьмы Белой Церкви, Вршаца, Бечкерека,
Митровицы, Загреба и Белграда, то шли, не опуская головы, шли и гордо смотрели
людям в глаза.
Драгиня и Милан встретили 1941 год в деревне Неузина,
что расположена километрах в двадцати севернее Алибунара. Жили они у Момчило,
который там учительствовал. После нападения немцев на Советский Союз всем
активным членам движения была разослана директива Учи, и братья Стефановичи:
Страхиня, Момчило, Реля, выполняя указание руководства, уходят в подполье,
организуют Дубицкий партизанский отряд. Всю работу в отряде взяли на себя
Момчило и Реля. Драгиня с Миланом поселились на окраине Неузины. Власти как
будто про них забыли. Но с осени, когда активизировалось партизанское движение,
все-таки изредка посылали патруль полицейских, чтобы проверить, присмотреть за
неблагонадежными людьми, а заодно и узнать, не навещают ли своих родителей
сыновья, пропавшие, как сквозь землю, с приходом немцев. Одного из них,
среднего сына, Светислава, гестаповцам удалось схватить в самом начале войны, и
они держали его заложником в концлагере. Но остальные трое исчезли, и гестапо
не переставало охотиться за ними.
Вот меня и направила Беба на связь к
Страхине в Алибунар. На явке меня встретил Душко, который и отвел к Страхине,
на окраину села. Обрадовались мы друг другу, когда встретились — давно не
виделись, почти год. Доложил я Страхине все, что Беба велела, передал записку,
и пока он читал и обдумывал сказанное мной, я насмотрелся на Страхиню. Одетый
во все крестьянское: гунь, тяжелые суконные штаны, резиновые опанки, небритый,
с обветренным лицом, он мало чем отличался от обычного деревенского жителя.
Пахло от него крепким табаком и овечьей шкурой. Держался он спокойно, без
лишней суеты, ну мужик, да и только.
Многое
предстояло сделать Страхине
после осеннего провала подполья
во Вршаце: наладить связи, помочь кадрами. Нужно было найти новые явки, где-то
поместить двух товарищей, Лидию и Релю, которых Страхиня решил направить в
город для изучения обстановки, прежде чем принять окончательное решение.
Дело двигалось медленно. Горожане, не так
давно сочувствовавшие народно-освободительной борьбе, в трудные дни после
провала отказывались помогать нам. Люди просто боялись. По всему Банату были
наставлены виселицы, всюду черными ранами зияли могилы расстрелянных патриотов,
всюду действовали явные и тайные агенты, шпики, доносчики, предатели.
Всех, кто хоть как-то помогал подпольщикам, хватали и бросали в застенки.
Известные в то время в городе врачи Ивачкович и Джурич, сочувствовавшие нашей
борьбе, не приняли у себя наших товарищей, опасаясь за свои семьи, за своих
детей.
Страхиня не торопился, не паниковал, он
отлично понимал создавшуюся обстановку. Главным было в это время сохранить
основное ядро подполья, не дать немцам возможность обезглавить движение. И
потому основным законом для каждого подпольщика была осторожность, осторожность
и еще раз осторожность. И Страхиня не уставал повторять нам об этом. Удачи в
этот период были редки, и можно было понять, как он обрадовался, когда я
сообщил ему, что нашел для явки один заброшенный дом на Спаичевой улице, где мы
могли бы принимать связных. Страхиня сказал, что как постоянное место явки этот
дом использовать нельзя, а вот как временное пристанище для наших товарищей
можно. Будет хотя бы где переночевать. Я притащил туда сухих лепешек, сала,
немного копченостей, что мне дали в Алибунаре, и оставил все это в доме на
случай, если кому-нибудь из товарищей придется здесь остановиться. Несколько
раз приезжали Реля, Лидия, я встречал их у церкви, сопровождал до начала
Спаичевой улицы и уходил. Товарищи занимались своим трудным делом, ночевали в
«моем» доме и опять исчезали. Я был очень доволен, что хоть как-то помог
движению в этот трудный момент.
И вот именно в это время, когда Страхиня
с товарищами работал над восстановлением организации, порванных связей, а я по
мере своих сил и возможностей ему в этом помогал, в гестаповской тюрьме в
Бечкереке встретились две матери — Драга и Драгиня. Драга сидела в тюрьме как
заложница еще с лета сорок первого года, а Драгиню немцы арестовали недавно, и
она числилась у них как опаснейший преступник «великого рейха».
...Беда случилась в начале сорок второго
года в Неузине. В ранние сумерки, в ненастную погоду, когда северац
схлестывается с восточной кошавой и играючи забрасывает горсти липкого, влажного
снега со струями холодного дождя то за шиворот, то в лицо, мало кто из путников
не остановится, отвернув лицо от ветра, чтобы хоть немного передохнуть. Вот в
такую непогодь и шел со своим товарищем Лалой с партизанской базы в
Дубице мимо Неузины в Ботощ партизан Момчило Стефанович. Тяжелый банатский
чернозем от дождя и снега раскис, и они с трудом продвигались вперед по
бездорожью. Выйти на железнодорожное полотно или хотя бы на наезженную
деревенскую дорогу нельзя. Запросто можно нарваться на засаду или немецкий
патруль. Партизаны отлично это понимали и продолжали месить ногами липкую
грязь, с трудом вытаскивая из нее давно уже промокшие ноги.
Лала чувствовал себя скверно и понимал,
что до партизанской базы ему не дойти. Его знобило, и через каждые сто метров
он сдавленно кашлял. Не лучше чувствовал себя и Момчило. Партизанские базы в то
время были еще очень плохи. Люди только учились их строить. Холод, сырость,
вечные лужи под ногами делали свое дело, и многие партизаны переносили на ногах
простуду вплоть до воспаления легких. Не выдерживали таких условий даже
здоровяки. Люди месяцами не мылись, их донимали вши. И когда у партизан
появлялась хоть малейшая возможность попасть в тепло, помыться, сбросить с себя
пропахшую потом робу, вытравить ненавистных насекомых, такую возможность они не
упускали.
На пути движения партизан была Неузина,
которую надо было обойти. Лала уже двигался из последних сил, время от времени
садясь прямо в липкую холодную жижу, чтобы хоть немного передохнуть и набраться
сил, которые его совсем оставляли. Усилием воли он превозмогал усталость,
вставал и плелся дальше. Но по всему было видно, что до базы ему не дойти.
Стужа крепчала,
Лала все чаще оседал в грязь. И тогда
Момчило предложил:
—
Послушай, зайдем к моим, тут недалеко, на окраине... Погреемся, выпьешь
чего-нибудь горячего, отдохнем немного, а к рассвету до базы доберемся...
Лала сначала отказывался, по в конце
концов, совершенно выбившись из сил, согласился.
Быстро свернули с поля на деревенскую
дорогу, задами прошли к дому. На стук в окно откликнулась Драгиня. Увидела
Момчило, засуетилась:
—
Ах вы мои соколики, да никуда я вас не отпущу, пока не накормлю, не
постираю, не помою, вшей не вытравлю. Да
и на ногах-то вы едва держитесь...
Не беспокойтесь, ненастье-то какое!
Разве кто-нибудь в такое время высунет нос на улицу! Сейчас я,
сейчас. Милан-то уехал, завтра только
будет, не увидит вас!
Расстроится старик!..
Затопила печку, котел нагрела, искупались
партизаны, одежду свою скинули, Драгиня ее постирать взяла, и только они в
Милановом белье, разомлевшие и от мытья, и от еды, и от тепла, начали чистить
свои пистолеты, как дверь дома разлетелась от ударов прикладов, и в комнату
ворвались двое полицейских. Патруль все-таки и в ненастье вышел и свет в окнах заприметил! Сработала
немецкая пунктуальность и дисциплина! На глазах матери разыгралась жестокая и
неравная борьба. Двое больных, усталых, измученных дорогой партизан схватились
с двумя упитанными, отоспавшимися полицейскими.
Прижатая к стенке Драгиня с ужасом
наблюдала за происходящим. Борьба была слишком неравной.
Не выдержало материнское сердце. Она
добралась до перевернутого столика, где лежал ее остро отточенный кухонный нож,
схватила его и вонзила в немца, уже подмявшего под себя ее сына. Рука у Драгиня
не дрогнула. Немец упал замертво. Момчило тут же поспешил на помощь Лале, но
второй полицейский вырвался и, выскочив на улицу, убежал. Партизанам нужно было
срочно уходить. Они предложили матери уйти вместе, но Драгиня их успокоила:
ничего, мол, немцы с ней не сделают, старая она, и осталась дома.
Но фашисты есть фашисты. Не посмотрели
они на старость. На допросах у Шпиллера Драгиня держалась гордо, с
достоинством.
— Да, я убила полицейского... Он ворвался
в мой дом, как разбойник, с оружием в руках.
— Нет, сын мой как раз не разбойник, он
честный человек!
— Это вы, бандиты, чужую землю топчете,
сын мой по своей земле ходит!
Когда Драгине и Милану зачитали на
тюремном плацу приговор, Милан не выдержал — по его морщинистому лицу потекли
слезы. Но Драгиня не позволила ему пасть духом окончательно:
— Не плачь, Милан, мы свою жизнь честно
прожили,
негоже перед врагами слезы проливать!
Расстреляли фашисты Драгиню и Милана 14
апреля 1942 года в их родной деревне Неузине. Приняли они смерть достойно, с
верой в свою правоту и правоту детей своих. И дети их веру оправдали! Они
продолжили борьбу против фашизма и в этой борьбе стояли насмерть.
ТАК БЫЛО!
В начале марта сорок второго года до нас в Вршаце дошел слух, что
в Панчеве была большая перестрелка партизан с гестаповцами и немецкими
войсками. Немцы понесли большие потери. Одни говорили, что все наши погибли во
время этой перестрелки, по другой версии все партизаны благополучно вернулись к
себе на базу. Народная молва часто преувеличивает, всегда оставляя место для
надежды. В жизни, к сожалению, все складывается суровое, трагичнее.
Перестрелка действительно была 6 марта 1942 года, в
этой перестрелке погиб наш Браца. Пал смертью храбрых Братислав Петров, третий
с начала войны секретарь партийного подполья и руководитель Сопротивления
народов Южного Баната. И на этот раз не обошлось без предательства. Нашелся в
наших рядах слабак и трус, мелкий человечек, предавший Шпиллеру товарищей.
Шпиллер же, как только получил сведения о месте нахождения руководителя
Банатского подполья, своего шанса не упустил. Он решил действовать наверняка. С
сотней солдат и ударной группой гестаповцев незадолго до рассвета окружил
двойным кольцом домик на окраине Панчева, в котором находились наши товарищи.
Вместе с Брацей в доме были Беба и Станко — члены руководства подполья Южного
Баната — и их связная Агата.
Немцы окружили домик без шума, но
дежуривший Браца все же заметил их и поднял ребят по тревоге. Он расставил их
так, чтобы контролировать все подходы, и ударным группам гестаповцев не удалось
ворваться в дом. Шпиллер предложил сдаться, Браца ответил отказом. У
подпольщиков было мало боеприпасов, немцы же открыли ураганный огонь. Наши
отвечали отдельными выстрелами, отбивая только прямые атаки. Наконец немцы
гранатами разворотили, двери, окна. Некоторые гранаты, не успевшие разорваться,
ребята выбрасывали обратно.
|
Црвен је исток и запад Црвен је север и jуг!
Кораци тутне у напад
Напред
уз друга jе
друг. |
Восток
и запад алеет Алеет и
север и юг Смело в
атаку шагает Рядом
проверенный друг. |
(Песня югославских партизан,
сложенная на музыку русской революционной песни «Смело товарищи в ногу» - примеч. ред.)
Полдня не могли 120 фашистских
головорезов, вооруженных до зубов, одолеть четверых наших героев! Но вот
смертельно ранена Беба, упала без сознания Агата, кончились гранаты у Брацы и
Станко. Не было больше и патронов. Наши уже не могли отвечать на немецкие
выстрелы. Но даже когда совсем стало тихо, Шпиллер и его палачи все еще боялись
подойти к домику, окутанному дымом, гарью, пылью. И когда, наконец, после
затянувшейся паузы фашисты ворвались в дом, они обнаружили только мертвых. У
каждого из наших в правой
руке был зажат пистолет, а в левой лежала записка со словами: «Мы погибаем за
свободу народа».
Это была последняя идея Брацы — донести до товарищей
весть о своей смерти, чтобы они смогли рассказать потом о них грядущим
поколениям. И он в своих расчетах не ошибся. Сам Шпиллер рассказал на допросах
уже после нашей победы об этих записках и стал, таким образом, последним «курьером»
Брацы.
А молва народная все росла и росла! Люди
говорили о случившемся на улицах, на базаре, добавляя все новые и новые детали к картине прошедшего боя. Якобы наших
было не четверо, как утверждают немцы, а больше. Они уложили гранатами много
фашистов. И чуть не половина наших пробились и исчезли, только немцы их и
видели! Никак не хотел народ хоронить своих героев...
Говорят, надежда умирает последней. Не
знаю, как в других краях, но у нас в Банате надежда не умирала ни при каких
обстоятельствах, даже тогда, когда немцы объявили, что с партизанами покончено.
Надежда смотрела из выплаканных глаз матерей, каменела в гримасах боли и
скорби, в схваченных судорогой лицах жен, сестер и братьев, в морщинах друзей,
товарищей. Надежда и сама, как глаза матерей, иссыхалась, она сжималась до
физической боли, но не умирала. О погибших говорили как о живых. И все верили в
победу, в тот день, когда вернутся наши — в то, что он наступит, никогда не
переставали верить.
Как трудно все это объяснить сегодня,
спустя столько лет!.. Трудно, но необходимо — ведь так было!
ПЕРЕСТРОЙКА
Гибель товарищей я переживал тяжело. Так мне хотелось быть вместе с ними,
отбивать атаки нацистов, и отомстить хотелось, придумать что-то, какое-то
настоящее дело, чтобы старшие увидели, что я уже взрослый, и чтобы и меня на
это дело взяли.
У меня родилась одна, как мне тогда казалось,
великолепная идея. Идя на очередную встречу со Страхиней, я обдумывал, как бы
получше ее изложить, чтобы Страхиня не только воспринял мой план серьезно, но и
принял его как руководство к действию.
Дело же было вот в чем. В Вршаце, шатаясь
по городу, я все присматривался к нашей магистратуре. Немцы, опьяненные своими
успехами на фронте, совершенно потеряли бдительность и вели себя так, как будто
находились дома. Их не отрезвило пока поражение под Москвой. В ратуше не было никакой охраны, а
ведь стены у ратуши толстые, как у крепости. И если ее занять с десятком
товарищей — а сделать это можно безо всяких потерь, то продержаться мы сумели
бы долго. В подвале ратуши у немцев был склад с оружием, одних винтовок уйма,
и, вооружившись, можно было бы шуму наделать много, а когда станет невмоготу, то и пробиться из города
не составит большого труда — немцы же совершенно расслабились и к борьбе не
готовы. Так мне тогда казалось, по крайней мере. Врезали бы мы им так, считал
я, что они надолго бы нас запомнили. Да и для движения была бы большая польза:
слух о нашей операции прошел бы по всей стране, а может быть, и по всей Европе.
А то нас все бьют и бьют, потери ужасные. Пора бы уж и нам взяться за дело.
Когда я свою идею с захватом ратуши
выложил Страхине, я ждал, что он меня похвалит, и совсем растерялся, услышав в
ответ:
—
Рано, браток, о таких акциях говорить...
Вообще Страхиня всегда был суров, строг,
немногословен, как и подобает руководителю подпольного движения. А тут, увидев,
какую реакцию вызвал его ответ, он подобрел, помягчел. Но добавил твердо:
—
Послушай, что я тебе скажу. Все ты до сих пор делал хорошо, даже
отлично. Я тобой очень доволен. Но потери у нас везде, как ты знаешь, страшные.
Враг нас атакует по всему фронту. Кадров все меньше и меньше. Любая шумная
акция неизбежно приведет к потерям. Не умеем мы еще работать,
перегруппироваться нужно. Руководство приняло решение о временном прекращении
активной деятельности во многих звеньях. Директива относится и к тебе.
Прекращаешь все связи, в том числе и со мной. Уходишь в глубокое подполье.
Перегруппируемся, перестроимся — я тебя найду.
По мере того как он говорил, лицо у меня
все больше вытягивалось. Этого-то уж я никак не ожидал от него услышать. Что
угодно, но только не прекращение борьбы. А Страхиня, похлопав меня по плечу,
уже шепотом добавил:
— Ты не бойся, я тебя обязательно
найду... Со мной-то ничего не случится... Будет и на нашей улице праздник,
правильно Москва говорит! А насчет твоих проектов мы обязательно что-нибудь
придумаем. Вернемся к ним через годик...
Говорил он серьезно, как равный с равным:
— Война затягивается, браток,
затягивается. Надеялись на быструю, легкую победу над этой сволочью, но не
выходит. Надо искать другие пути борьбы! Так ты понял приказ? И чтобы никакой
самодеятельности! Ты нашу дисциплину знаешь — вот по ней и равняйся! А я тебя
найду, можешь на меня положиться.
Уходил я от Страхини грустный, будто во
мне что-то оборвалось. Хорошо еще, что Страхиня разрешил продолжать дежурства
по пятницам у церкви перед богослужением, чтобы не ломать уже привычный уклад,
чтобы жить как раньше, ничего не меняя, а значит, и не вызывая подозрений.
МИЛА
Беда, как известно, не приходит одна. И
хотя в это тревожное время каждый день что-нибудь случалось: то погибал хороший
товарищ, то проваливалась явка, то немцы арестовывали еще несколько заложников,
— все одно каждое новое сообщение о наших потерях ошеломляло.
|
Панчево. Казнь Милы и
товарищей. 21 июня |
В начале весны, рано утром, прибежал ко
мне Борис: — Мила передала: за ней слежка. Надо шапирографы и другие материалы
по типографии с ее дачи перенести в другое место... Просила действовать
осторожно. Договорились после обеда пойти за сухой акацией. К закату
загрузимся, подойдем к Милиному винограднику и, если все в порядке, перебросим
печатную технику и материалы в другое надежное место, указанное Милой.
К закату мы были на большой скале, из
расщелин которой как на ладони была видна Милина дача. Прильнули мы к острым выступам
скалы и притихли. Видим — у дачи стоит немецкий грузовик, фашисты вовсю
орудуют, шныряют от дома к грузовику и обратно, видно, как они грузят что-то,
завернутое в тряпки, ящики, выкатывают из дома и бочки с вином. По тому, как
весело они бегали от дома к грузовику, чувствовалось, что они довольны, успели,
небось, вина хлебнуть. Громко разговаривают, гогочут.
Мы оцепенели: все, провал, Мила
арестована. Договорились с Борисом пока не встречаться. Расстались молча, тугой
ком подступил к горлу, мешал говорить. Никак не мог я смириться с горькой
мыслью, что Мила, наша Мила в руках фашистов.
Мила выдержала все пытки, никого не
выдала. Истязали и мучили ее сначала местные гестаповцы, а затем передали в
руки заплечных дел мастера, обер-палача Шпиллера. Прошла она муки страшные! И
ступни отбивали ей, и почки, и иглы забивали, и ногти рвали, но Милу сломить не
смогли. Не стала Мила спасать себя, не разменяла свою двадцатилетнюю, чистую и
прекрасную жизнь подпольщика-революционера на посулы врагов, ничем не запятнала
себя, предпочтя смерть предательству. Своей стойкостью и мужеством Мила
поддержала товарищей в тюрьме, проявила самое настоящее величие духа и это
величие сохранила до самых последних секунд своей жизни.
В конце июня 1942 года я понес передачу
бабушке в Бечкерек. Вместе с другими родственниками заключенных меня впустили
на тюремный плац. Расселись мы на земле кто куда. Поговорили с бабушкой о том,
о сем. раскрыл я платок, показываю, что принес, а бабушка, оглянувшись по
сторонам, шепчет:
— Слушай, что скажу. Может, живой не
выйду отсюда, а надо, чтобы люди на воле о том знали. С неделю назад выстроили
нас в какой уже раз для сообщения, кто будет казнен. Рядом со мной Мила
оказалась. Стоим, тишина. Кто дрожит, кто плачет, все в напряжении. Страшное
это дело — ждать переклички на казнь! Никогда не знаешь, когда твоя очередь
придет. Начальник тюрьмы кричит: повешены будут двадцать пять бандитов.
Упомянутым — шаг вперед! Стал вызывать, вызвал и Милу. К каждому, сделавшему
шаг вперед, подходит хромой Шпиллер, заглядывает в глаза, наслаждается страхом.
Подошел он и к Миле, зашипел: «Ну что, фройляйн-красавица? Вот твой последний
шанс: еще раз предлагаю, расскажешь о «товарищах» — не будет виселицы!» — И
смеется: га-га-га. А чтобы она поверила в то, что говорит, сделал такой широкий
жест рукой, мол, перед всеми говорю, все свидетелями будете, и впился своими
подлыми глазами ей в лицо.
Только напрасно он искал в Милином лице
страх. Мила шумно вздохнула, наклонилась вперед да как плюнет ему в морду, он
даже отвернуться не успел. И крикнула при этом:
— Сволочь гитлеровская! Коммунисты не
продают своих товарищей и не служат фашистам!
Охранники тут же набросились на Милу,
свалили ее на землю прикладами. Шпиллер, утираясь, остановил их и приказал
охранникам привести Милу в сознание. Окатили ее ведром холодной воды. Мила,
приходя в себя, вздрагивала, а Шпиллер злобно-мстительно говорил, обращаясь и к
ней, и к остальным заключенным:
— Я на тебя завтра посмотрю, как ты
будешь болтаться в петле... Завтра тебе будет жарко...
Прошипел Шпиллер и ушел с плаца.
Заключенные унесли Милу в камеру. Пришла она потом в себя, говорит мне с
улыбкой:
—
Ничего, мама, мы им еще покажем! Это они в тюрьме такие храбрые... Все
равно победа будет за нами!
Причесалась, привела себя в порядок,
надела красивое голубое платье, что Милушка, ее мать, ей в передаче принесла.
Собрала вокруг себя девчат из приговоренных, пошептались они о чем-то и запели
свои любимые песни...
—
Я, — рассказывала бабушка, — такого замечательного человека,
с такой сильной и красивой душой за свою долгую жизнь еще не видела.
Всем расскажи, людям нужно об этом знать!
Двадцать первого июня 1942 года в городе Панчеве
на место казни двадцати пяти коммунистов — борцов за свободу фашисты согнали
народ. Виселицы педантично выстроены в ряд, бронетранспортеры, немецкие солдаты
в черных и зеленых мундирах образовали каре.
Погода в июне в Южном Банате стояла
жаркая, но обычного для этих мест зноя еще не было. Если подняться по
каменистым уступам до зубчатых бойниц нашей старой крепости на вершине горы, то
с нее видно далеко-далеко. На западе, там, где земля смыкается с серой пеленой неба, иногда видны бывают
полоска Дуная и разноцветные крыши домов Панчева и Белграда. В этот день старая
крепость вновь удивлялась бесстрашной Миле, как еще совсем недавно она дивилась
смельчаку, что парил на планере в мирном голубом небе.
Легкий ветерок доносил с Дуная свежесть,
запахи земли, отгоняя вонь немецких дизелей. Небо такое синее — Миле и ее
товарищам глаз не оторвать. Но нельзя, нельзя расслабляться, нельзя показать
немцам, что жизнь — такая молодая жизнь! — и им бесконечно дорога! Шпиллер,
Райт, офицеры СС, упитанные, самодовольные, только и ждут, чтобы кто-нибудь
проявил слабинку. Но на них смотрят и другие глаза, сотни глаз простых людей,
согнанных на казнь, и ради этих людей они должны проявить все мужество, на
какое только способны, и показать, что они не боятся врагов, показать, что
истинные хозяева в Южном Банате не фашисты, а народ, который живет на этой
земле, политой его потом и кровью, и они — сыны и дочери этого народа.
Когда палач подошел к Миле, чтобы надеть на ее шею петлю,
Мила сильно оттолкнула его, сама поднялась на табурет и крикнула:
— Не убирайте эти виселицы, гиглеровские душегубы! Придет время, и
очередь будет за вами!
Она сама надела петлю. Последние слова
Милы, обращенные к согнанному на казнь народу, звонко пронеслись над площадью:
— Не падайте духом, товарищи! Победа будет
за нами! Да здравствует свобода! Да здравствует Советский Союз! Смерть фашизму!
Послышались выкрики других товарищей, кто-то запел
песню. Шпиллер, не выдержав, закричал:
— Шнеллер, шнеллер!
Палачи спешили выбить табуреты из-под ног
подпольщиков, боясь, что смельчаки превратят казнь в открытый суд над фашизмом.
Наступила мертвая тишина. Только ветерок
колыхал Милины светлые локоны.
Немцы стали разгонять народ, а у Милы и
ее товарищей началась новая жизнь, жизнь в легенде. Для народа герои подполья
не умерли, они продолжали жить, и люди передавали из уст в уста еще одну удивительную
легенду о бесстрашных коммунистах начала сороковых годов, борцах за свободу,
истинных хозяевах родной земли!
В М Е С Т О Э П И Л О Г А
|
|
|
Стевица Йованович, секретарь подпольного окружного комитета КПЮ. Один из организаторов восстания в Южном Банате. Погиб 25.12.1941 г. Посмертно Народный Герой Югославии |
К этому времени Уча, начиная с 22 июня 1941 года,
прошел пешком, проехал на подводах с юга на север, от села к селу, от города к
городу, от явки к явке сначала весь Банат, потом Бачку, стонущую под каблуком
венгерских фашистов, затем еще раз весь Банат уже с севера на юг. Шпиллер на
поимку Учи бросил свои лучшие силы: гестапо, полицию, агентуру, — чтобы
схватить или уничтожить, как он выражался, «красного генерала». За голову Учи
предлагались большие деньги. Но пока Уче удавалось ускользать из коварно
расставленных гестапо ловушек. Народная любовь берегла его и была сильнее
ненависти врагов.
Тяжелым для Воеводины были конец сорок
первого и весь сорок второй год. После гибели Стевицы Йовановича, члена
Воеводинского краевого комитета КПЮ, и секретаря окружного комитета Баната в
городе Панчеве в декабре 1941 года, связь Учи с ЦК КПЮ, которая шла через
Стевицу, прервалась.
Борьбой против оккупантов в Бачке руководил
Тоза — Светозар Маркович, заместитель Учи по организационным вопросам.
Сам Уча, находясь в 1942 году в Банате, прилагал все силы, чтобы восстановить
дееспособность нашей организации, которой враг за первые двенадцать месяцев
нанес сильный урон. В это время никакой связи с центром
народно-освободительного движения не было, и все попытки ее наладить
оканчивались безрезультатно. Встал вопрос об использовании румынских южных
Карпат как возможной базы для отвода и укрытия партизанских отрядов и некоторых
подпольщиков с наступлением зимы.
|
|
|
|
|
Милан Якшич, инженер, руководитель районного антифашистского
повстанческого штаба, организатор
выпуска антифашистских
воззваний, листовок, арестован
гестапо 06.09.1941 г.,
подвергался на допросах нечеловеческим пыткам, расстрелян 09.05.1942 г. |
|
Жива Йованович
–«Андра», учитель, член подпольного
окружного комитета КПЮ, командир
Южнобанатского партизанского отряда, погиб 13.06.1944 г. |
Страхиня стал четвертым, после смерти
Брацы, секретарем партийного подполья Южного Баната. Он помогал Уче в
выполнении тяжелых и неотложных задач, был его правой рукой, подбирал и готовил
руководящие кадры на смену павшим товарищам.
Борьба продолжалась, жизнь продолжалась.
Долгожданная общая победа, освобождение Вршаца Красной Армией были еще очень далеки.
Народно-освободительному движению предстояла долгая и жестокая борьба с
фашистской нечистью, предстояли еще огромные невосполнимые потери.
Успешные операции Народно-освободительной Армии и
партизанских отрядов Югославии, о которых тут же становилось известно всей
стране, приводили к тому, что все большее число людей активно включалось в
борьбу. Этому немало способствовали и разгром гитлеровцев под Сталинградом, на
Курской дуге, приближение Красной Армии к нашим границам. К тому времени
народно-освободительное движение, руководимое коммунистами, обрело такую силу и
размах, что справиться с ним оккупанты были уже не в состоянии.
Наступали переломные дни и в истории
народно-освободительной борьбы Баната. В сентябре 1943 года Северо-банатский
партизанский отряд переходит Дунай и налаживает связь со Сремом. В апреле 1944
года вышел на связь со Сремом и Южно-банатский партизанский отряд.
Восстановление связи с центром народно-освободительного движения Югославии было
чрезвычайно важным событием для подъема массового народно-освободительного
движения в Банате. Подобно сказочному Фениксу из пепла и руин возрождались в
жаркое лето 1944 года партизанские отряды па просторах Баната и Бачки.
Как долгожданных братьев своих партизаны,
подпольщики и весь наш народ, встречали со слезами радости на глазах бойцов
Красной Армии ранней осенью 1944 года. Эти незабываемые, встречи помнят бойцы
Третьего Украинского фронта, их помнит весь наш народ.
Дорогой читатель!
Вот еще несколько фотографий героев, о
которых не успел написать автор. В его архивах сохранились эти фотографии и
подписи к ним. Он не раз выступал в Советском Союзе и России перед военными,
студентами, у себя на работе в КБ с рассказами о них.
|
Ковилька Иванович,
активная участница антифашистского сопротивления, работник
подпольной
антифашистской типографии, арестована гестапо
06.09.1941 г., расстреляна 09.05.1942 г. |
|
Зренянин Спасое, один из
организаторов Народно-освободительной борьбы в Центральной Сербии и
Космайского партизанского отряда.
Самый младший в семье Зренянин, брат Анджелии, Веры, Жарко и Любимы –
дядя автора. |
|
Драгомир Ацкета,
рабочий, блестящий пропагандист,
боец Южно-Банатского
партизанского отряда, погиб смертью храбрых
12.11.1942 г. в бою отряда с оккупантами. |
|
Петар Ацкета, рабочий,
неутомимый подпольщик-агитатор
среди населения Южного Баната, связной
руководства подполья с
организаторами в деревнях, схвачен гестапо
30.01.1942 г., подвергнут страшным
пыткам, повешен оккупантами
21.06.1942 г. |
И еще несколько слов о
замечательной фотографии, найденной в семейном архиве в 2010 году.
В архивах автора была найдена фотография
советского солдата – гвардии старшины, освобождавшего с Третьим Украинским
фронтом Воеводину, город Вршац. Фотография была подарена семье подпольщиков –
Зренянин – Миличевич. На обороте - подпись красивым разборчивым почерком,
невозможно только понять фамилию. Старшину звали Василий Алексеевич. Приводим в
этом материале и фотографию и ее оборот. Может кто-нибудь узнает своего
близкого или знакомого человека …
Так мы написали, когда в 2010 году
выкладывали книгу «Товарищи мои» на сайт ВИФ-2, который ведет профессор
факультета ВМиК МГУ Сухомлин Владимир
Александрович. В октябре 2013 года именно там, на сайте, книгу прочитал доктор
исторических наук, доцент Уральского Федерального университета Мамяченков
Владимир Николаевич. Он распознал фамилию Василия Алексеевича – Чурсин.
|
|
|
|
Оставляем эту фотографию и историю в
конце книги. Кто знает, может быть найдутся потомки Алексея Васильевича
Чурсина.
05 февраля 2015 года
Подготовили Юлия и Екатерина
Миличевичи
(495) 639 72 49
(495) 612 02 64
СОДЕРЖАНИЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|